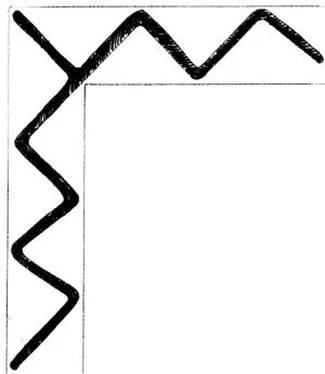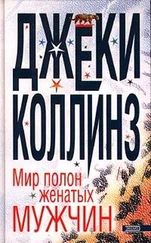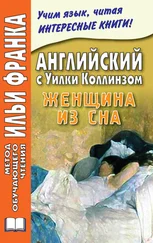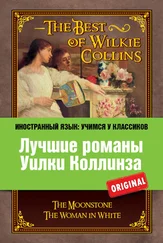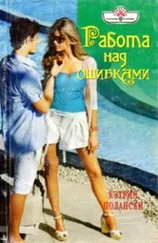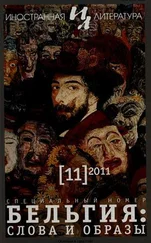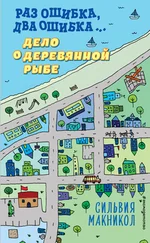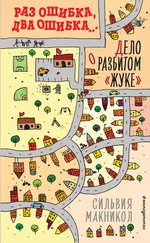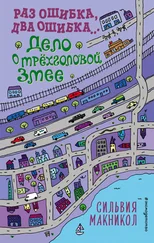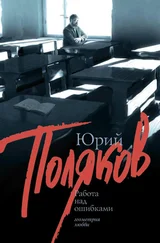Заголовком воспоминаний Гектора Шевиньи 1946 года мог бы гордиться Дали. Хоть выставляйте их на ярмарке и пообещайте огромного плюшевого мишку в качестве приза — все равно никто не догадался бы, о чем там речь. Возможно, отчасти и поэтому они переиздаются пятьдесят лет. Уверяю вас: «У моих глаз холодный нос» — чтение, заслуживающее уважения!
«Как собака ведет вас, откуда ей известно, куда надо идти? — рассуждает Шевиньи. — Кажется неправдоподобным, но человек посреди бела дня может осмелиться перейти Лексингтон-авеню, ведомый всего лишь маленьким животным». Уж он-то понимает, о чем пишет: за год до этого у сорокалетнего сценариста неожиданно произошла отслойка сетчатки, и он совершенно ослеп. Столкнувшись с абсолютной зависимостью от собаки по кличке Виц, он прикидывает, как скомандовать ей «больница на углу Лексингтон и Пятьдесят первой» — на всякий случай.
Идея о том, что инвалид может практически во всем положиться на собаку, была чем-то новым. Появились собаки-поводыри в результате кошмаров Первой мировой: после того как тысячи немецких солдат ослепли от горчичного газа, фосфорных бомб и шрапнели, школы для собак-поводырей стали открываться в Германии и Швейцарии в начале 1920-х. Первые немецкие собаки-сопровождающие просто… ну, просто сопровождали. Они могли водить ветеранов по хорошо размеченным дорожкам, не давая им заблудиться. Потом на основе этого скромного начала выросли собаки в оранжевых попонах, которые могли перевести незрячего через улицу, предупредить неслышащего об автомобильном сигнале или дверном звонке, помочь парализованному. Лучший друг человека, однако, действительно должен быть другом: если вы терпеть не можете собаку, то она вам не помощник.
«Собак не нужно тренировать помогать слепому, они сами к этому склонны, — отмечает Шевиньи. — Собаку не одурачишь».
Вот вам еще один, не менее таинственный заголовок — книга «С точки зрения коровы». Она готовилась к изданию вскоре после «У моих глаз холодный нос». К счастью, перед публикацией заголовок сменили на «Мышление в картинках», и под этим названием книга известна до сих пор. Автобиография аутичной Темпл Грэндин имеет не меньшее значение, чем мемуары слепоглухой Элен Келлер [49] Элен Келлер (1880–1968) — слепоглухая американская писательница, преподаватель и общественный деятель, автор семи книг, в т. ч. — автобиографической повести «История мой жизни». Награждена Президентской медалью Свободы.
. Данная книга открывает всему «нейротипичному» миру огромную и совершенно неизвестную область жизненного опыта. Эта область — аутизм. Для Грэндин это не экзотика, а ее собственная, обычная, повседневная жизнь. Ее страстный исследовательский интерес — поведение животных. Изначальное название книги, несколько неуклюжее, приоткрывает окошко к этой ее основной теме.
«Когда один уважаемый ученый заявил мне, что животные не думают, я ответила, что если бы это было так, то мне пришлось бы сделать вывод, будто и я не способна думать», — пишет она. Для аутистов — в прошедшие времена их описывали как «диких», «людей-животных», — характерны особенная сосредоточенность и собственная, не доступная для диалога точка зрения. Эти черты связывают их с переживаниями животных и одновременно отгораживают от головокружительных эмоциональных проявлений людей — склонных к притворству и насквозь пронизанных речью. Невролог Оливер Сакс, описавший наблюдения за Грэндин в своем знаменитом отчете «Антрополог на Марсе», заметил: «Она переживала те же эмоциональные состояния, которые испытывали животные, отождествляя себя с ними».
Аутистов переполняют собственные чувства. Когда аутичный ребенок спасается от разрушительной сенсорной волны человеческого контакта, то — поясняет Грэндин — это вовсе не странное поведение: точно так же действовала бы перепуганная лошадь. Уж она-то знает. Ее сверхъестественные способности к зрительному представлению помещений и к анализу того, что происходит с животными, — доступность ей той самой «точки зрения коровы» — сделали ее известным дизайнером скотобоен и мясоперерабатывающих заводов. Когда-то ей довелось побывать на одной бойне в штате Айова, словно сошедшей с полотен Иеронима Босха: рабочие в шлемах, с зажимами для носа, вооруженные электрическими стержнями, тащили перепуганную скотину по загибающимся дорожкам навстречу жуткой смерти. «Если существует ад, — записала она позднее в своем дневнике, — то я в нем побывала».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу