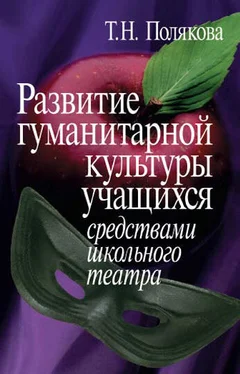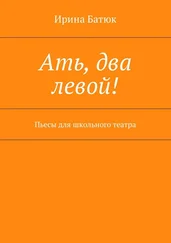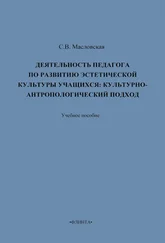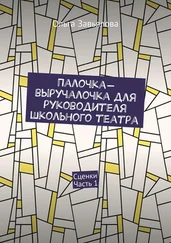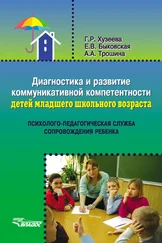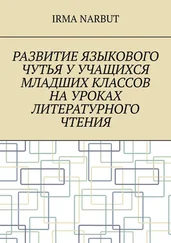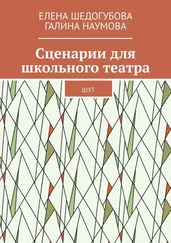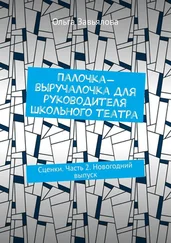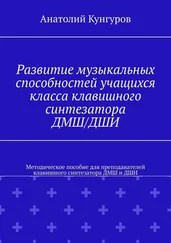В эпическом театре Б. Брехта находят свое продолжение принципы просветительского театра Д. Дидро, для которого актер – великий притворщик, испускающий слезы не с помощью чувств, а сознательным усилием своего ума. Он должен быть спокойным и холодным проводником мысли драматурга. Мысль ведет все, в том числе и чувства.
Какими бы разными не были подходы к театральной форме, во всех случаях театральное действие несет в себе сообщение, которое разворачивается в пространстве сцены и протекает во времени. Такое сообщение является текстом, обладающим своеобразным языком. Важнейший элемент театрального языка – звучащая речь. Но его знаковая система (знак – минимальная единица этого текста) включает в себя как вербальные, так и невербальные знаки: символика звука, изображения, декораций и т. п. Они передают зрителю полифоническую информацию в организованной динамике. Зритель может получать синхронно шесть-семь сообщений, исходящих от декораций, костюмов, освещения, размещения актеров в пространстве, от их жестов, мимики и речи. «Такая многокодовость спектакля дает возможность театральному искусству обращаться и к зрителю – знатоку, способному постичь полный смысл представления, и к широкому зрителю, который может понять сценическое действие в границах собственных возможностей восприятия этой кодовой системы» [34, с. 191].
В театре все: от грима и мимики до норм поведения зрителей в зале, от кассы до ритуализированной атмосферы – связано с проблемами художественного общения, т. е. с проблемами семиотики. Семиотика театра, пишет Ю. Лотман, мало изучена. Знак в театре реален и иллюзорен и образует поле семиотических значений, в котором живет художественный текст (спектакль). Бытие актера на сцене двузначно: он ведет диалог с другим и молчаливый – с публикой. Бытие в зале также двузначно, оно и превращает зрителя в участника коллективного акта сознания. Процесс передачи сообщения со сцены и декодирование его в сознании аудитории можно определить как две стороны единого процесса коллективного мышления.
Дублирование, взаимодополнение каналов знаковой информации делает театральный спектакль не только средством художественной коммуникации (как передачу значимой информации и культурных ценностей зрителю), но при учете воздействия зрительного зала на актера средством общения, диалога.
Зритель получает обработанную, организованную, скрепленную художественной концепцией информацию о мире. В процессе диалога происходит восприятие зрителем художественного произведения. Но точка зрения колеблется между художественной позицией созерцателя и созерцаемого. Для зрителя спектакль превращается в факт сознания, которое через восприятие осуществляет усвоение и переработку художественной мысли автора.
Творческая концепция художественного произведения становится содержанием сознания, ориентиром в отношениях с действительностью. Но смысл и ценности произведения вступают в диалог с жизненным опытом воспринимающего. Такой диалог дает большую вариантность в интерпретации смысла, превращая зрителя в со-автора, а процесс восприятия в со-творчество. Если рассматривать произведение искусства как открытую систему, то вариативность творческого восприятия бесконечна.
Такая вариативность в осмыслении информации предполагает двустороннюю ответственность: ответственность актера за то, что он хочет выразить, но и ответственность воспринимающего, от которого ждут деятельностного понимания с включением всех органов чувств и сознания. М. Н. Бахтин писал, что именно внутренняя связь элементов личности гарантирует эту ответственность. «За то, что я пережил и понял в искусстве, я должен отвечать своей жизнью, чтобы все пережитое и понятое не осталось бездейственным в ней… Искусство и жизнь не одно и то же, но должно стать во мне единым, в единстве моей ответственности» [13, с. 354].
Искусство театра становится помощником в выработке ценностей и ценностных знаний, которые нельзя приобрести волевыми усилиями, а только пережить в опыте отношений. Единство сознания и переживания как нельзя лучше проявляют себя в восприятии театрального искусства. Чтобы понять подтекст пьесы, надо его почувствовать, но чтобы его сопережить, надо его глубоко осмыслить.
Создавая жизненные модели, театр втягивает в сходные с жизнью события, раздумья, активизирует жизненный опыт. Внутренние влияния становятся частицей «я», потому что пропущены через внутренние фильтры психики, переработаны силой собственных переживаний и введены в уже накопленный опыт. При этом актуализируются моральные оценки жизненных явлений, невольно переживаются личные пристрастия, взгляды на жизнь – иначе говоря, возникает сложная, активная жизненная реакция на увиденное. Даже если она достаточно односторонняя, важно, что в процесс восприятия вовлечена вся личность, такое восприятие расширяет круг духовных запросов, интересов, моральных побуждений, формирует нравственное отношение к явлениям жизни, человеческим поступкам, их осмыслению.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу