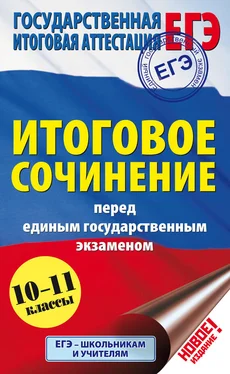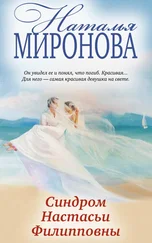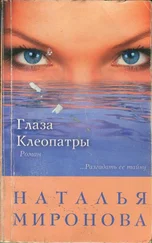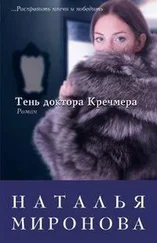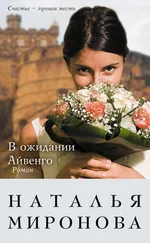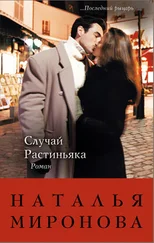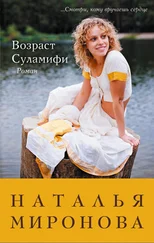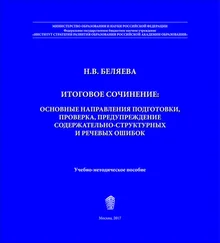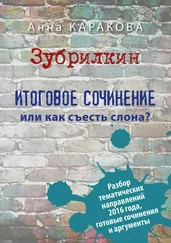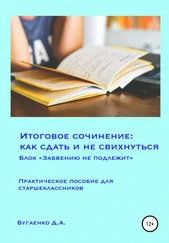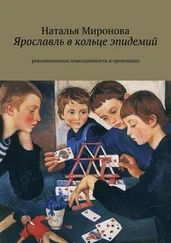Не просто складывались взаимоотношения поэтессы с собственной страной, но тема родины является одной из основных в поэзии Цветаевой. Любовь к Москве как малой родине, отчему дому выразились у поэтессы в цикле «Стихи о Москве» (1916). Здесь личные впечатления детства и юности переплелись со звуками московских колоколов, с запахом родных листьев и трав, так возникает образ «…огромного странноприимного дома», Москвы, где есть и целитель младенец Пантелеймон и где «Иверское сердце червонное горит». Москва обожествляется и становится живым существом, к которому обращены мысли поэта:
А вон за тою дверцей,
Куда народ валит, –
Там Иверское сердце
Червонное горит.
И льется аллилуйя
На смуглые поля.
Я в грудь тебя целую,
Московская земля!
Лирическая героиня Марины Цветаевой одинока. Оторванность от России, трагизм эмигрантского существования выливаются в поэзии в противостояние лирического русского я героини всему нерусскому, чуждому. Именно память о родине согревает метущееся сердце:
Что скушным и некрасивым
Нам кажется ваш Париж.
Россия моя, Россия,
Зачем так ярко горишь?
(«Лучина», 1927)
Потеря родины для М. Цветаевой имело трагическое значение: поэтесса становится изгоем, одиноким, отверженным человеком. Именно в эмиграции по-новому начинает звучать тема родины: появляется ощущение утраты отчего дома, мотив сиротства:
По трущобам земных широт
Рассовали нас, как сирот.
Который уж – ну, который – март?!
Разбили нас – как колоду карт!
(«Б. Пастернаку», 1925)
Для русского человека долгая разлука с родиной смертельна:
Всеми пытками не исторгли!
И да будет известно – там:
Доктора узнают нас в морге
По не в меру большим сердцам.
(«Потонули в медведях…», 1927)
Поэтесса тоскует по той России, которой больше нет, по прошлому родины:
Той России – нету,
Как и той меня.
(«Страна», 1931)
Хрестоматийным стихотворением данной тематики является поэтическая миниатюра «Родина» (1931). Здесь лирическая героиня Марины Цветаевой вновь мечтает о возвращении домой и центральной идеей выступает противопоставление чужбины, дали и дома:
Даль, отдалившая мне близь,
Даль, говорящая: «Вернись
Домой!» Со всех – до горних звезд –
Меня снимающая мест!
Все стихотворение построено на антитезе, контрасте «России, родины моей» и «дали – тридевятой земли». Противопоставляются не только образы, но и чувства поэта, ее «прирожденная, как боль» тоска по России. Марине Цветаевой свойственно личностное восприятие мира, поэтическое я героини неотделимо от образа лирического героя. Это подтверждают и многочисленные личные местоимения, используемые в тексте стихотворения: «до меня», «родина моя», «я далью обдавала лбы», «распрь моих». Личностное восприятие поэтессы выдвигается на первый план, поэтому здесь художественные образы переплетены:
Даль – тридевятая земля!
Чужбина, родина моя!
(«Родина», 1931)
Цветаевское стихотворение написано четырехстопным ямбом, который придает всему поэтическому произведению особый ритм, мелодию. Здесь поэтессой используются различные метафоры: «сей руки своей лишусь», «губами подпишусь»; эпитеты «неподатливый язык», «тридевятая земля», «горних звезд». Все данные художественно-выразительные средства помогают передать внутренние переживания лирической героини, ее мечты.
Родина ассоциируется у Марины Цветаевой с гроздями красной рябины. Именно это дерево является символом России. Так миг своего рождения описывает поэтесса в стихотворении из цикла «Стихов о Москве»:
Красною кистью
Рябина зажглась.
Падали листья.
Я родилась.
Именно рябина – яркая примета поздней цветаевской поэзии – последнее спасение в чуждом мире:
Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И все – равно, и все – едино,
Но если по дороге – куст
Встает, особенно – рябина…
(«Тоска по родине», 1934)
На мой взгляд, тема родины раскрывается Мариной Цветаевой через личностное отношение к России, ее судьбе как в ранний период творчества, так и вдали от дома, в эмиграции. Образ родины является той недосягаемой далью, которая манит лирическую героиню.
Читать дальше