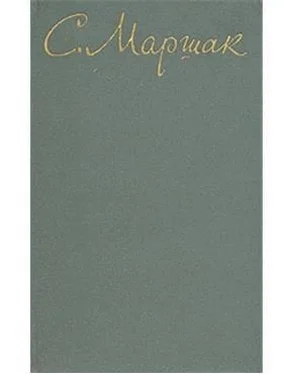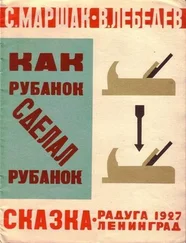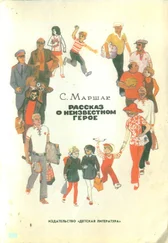«Пьесу „Двенадцать месяцев“, — рассказывает Маршак в статье „Сказка на сцене“, — я написал во время войны — в самые грозные ее дни. Загруженный ежедневной спешной работой в газете, над листовкой и плакатом, я с трудом находил редкие часы для того, чтобы картину за картиной, действие за действием сочинять сказку для театра…»
23 декабря 1942 года в письме к родным он сообщает: «Готов пролог и один акт». А через месяц пишет сыну, И. С. Маршаку: «Работаю… над большой сказочной пьесой „Двенадцать месяцев“. Две трети пьесы написано уже». 19 февраля 1943 года в письме к семье есть такие строки: «Работаю по-прежнему много. Пьеса вчерне готова, — кажется, удалась, но, должно быть, потребуются еще переделки, исправления, дополнения». А из письма 8 июня 1943 года узнаем: «14-го — 15-го буду читать пьесу труппе» (имеется в виду труппа Московского Академического Художественного театра). 18 июня 1943 года он вновь сообщает семье: «Пьесу сегодня… читаю труппе МХАТ… всего только два дня тому назад режиссером моей пьесы был назначен Станицын, ставивший „Пиквика“ и „Пушкина“… Был у меня позавчера вместе с худ. Вильямсом, которому поручены декорации и костюмы… Музыку будет писать Шостакович. Интересно, как встретит пьесу труппа».
О сюжете пьесы, о работе над нею Маршак много пишет и в своих статьях, и в ответах корреспондентам. Основой ее «послужили мотивы народных славянских сказаний о братьях-месяцах, встречающихся у костра новогодней ночью…».
Известно, что западнославянская легенда подсказала только завязку пьесы, а не весь сюжет.
Автор часто говорит о том значении, которое он придает труду в своей пьесе:
«Я старался избегнуть в своей сказке навязчивой морали. Но мне хотелось, чтобы сказка рассказала о том, что только простодушным и честным людям открывается природа, ибо постичь ее тайны может только тот, кто соприкасается с трудом» (статья «Сказка на сцене»).
И еще в самом начале работы над пьесой в письме к родным: «Тема углублена тем, что героиня пьесы „12 месяцев“ живет в природе и в труде. Все месяцы ее знают: один видел ее у проруби, когда она ходила по воду, другой в лесу, когда она рубила дрова, третий на огороде, где она поливала рассаду, и т. д.» (23 декабря 1942 г.).
«Очень нелегко было построить четкий и стройный сюжет пьесы (письмо к С. Б. Рассадину 27 июня 1963 г.). Основное заключается в том, что в дремучем лесу после разгула стихий королевой оказывается скорей падчерица, чем сама королева, учителем — солдат с его житейским опытом, а не профессор, наделенный книжной премудростью… Я долго думал над финалом. Нельзя же было оставить падчерицу в царстве месяцев и выдать ее замуж за Апреля-месяца. Я решил ее вернуть домой — из сказки в реальную жизнь…» И дальше «…я всячески заботился о том, чтобы в характере каждого месяца была какая-то реальная основа. Они говорят друг с другом о своих делах так, как могли бы говорить люди, ответственные за крупные хозяйства („У тебя крепко лед стал?“ — „Не мешает еще подморозить…“).
Месяцы помогают падчерице не только по доброте, а и потому, что они и раньше знали ее в лицо, видели ее на грядках, в лесу, где она собирала хворост, и т. д.».
В этом же письме Маршак рассказывает и об истоках прозаического варианта и пьесы «Двенадцать месяцев»:
«…О первом прозаическом варианте „Двенадцать месяцев“ могу сказать вот что.
…Когда я писал сказку „12 месяцев“ в прозе, я еще не знал сказки Немцовой, а только задолго до того слышал чешскую или богемскую легенду о двенадцати месяцах в чьей-то устной передаче. Только впоследствии мне стало известно о существовании сказки Немцовой. Еще дальше отошел я от богемской (или чешской) легенды в пьесе „Двенадцать месяцев“».
Написав пьесу в самом начале 40-х годов, Маршак не переставал вновь и вновь возвращаться к работе над ней. Готовя пьесу к новому изданию в издательстве «Детская литература», Маршак сделал значительную правку, нанеся ее на экземпляр книги «Сказки для чтения и представления», «Искусство», 1962.
Эта правка полностью вошла в текст сборника, вышедшего уже после смерти поэта («Сказки», 1966, т. 2), по которому печатается и настоящее издание.
Впервые поставлена в Московском театре Юного зрителя в 1947 году. В 1948 году поставлена во МХАТ.
Горя бояться — счастья не видать. — Впервые первоначальный краткий вариант под названием «Горе-злосчастье» в книге: Васильева Е. и Маршак С., Театр для детей, Краснодар, 1922 (см. общее примеч. к разделу «Пьесы»).
Читать дальше