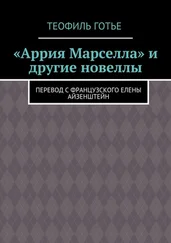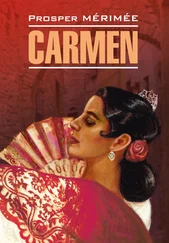– Мы проникнем туда, – воскликнул Пуссен, больше не слушая Порбю и ни в чем не сомневаясь.
Порбю улыбнулся энтузиазму юного незнакомца и оставил его с мыслью о просмотре.
Николя Пуссен сделал несколько медленных шагов по улице Арфы и прошел, не заметив, скромный отель, где он жил. Поднявшись с взволнованной быстротой по нищей лестнице, он вошел в высокую комнату, расположеннную под бревенчатой крышей, бесхитростно и легко покрывали такие кровли дома старого Парижа. У особенного темного окна этой комнаты он увидел юную девушку, которая на шум двери вдруг встала в любовном порыве; она узнала художника по звону щеколды.
– Это ты? – сказала она ему.
– Я, я, – сказал он, задохнувшись от удовольствия, – почувствовал себя художником! До сих пор я сомневался в себе, но этим утром поверил в самого себя! Я могу стать великим человеком! Пойдем, Жилетта, мы будем богаты, счастливы! Есть золото в кистях.
Но внезапно он умолк. На его торжественном и сильном лице исчезла экспрессия радости, когда он сравнил огромность надежд с посредственностью своих материальных возможностей. Стены его жилища были покрыты простой бумагой, заполненной карандашными набросками. Он не обладал и четырьмя собственными полотнами. В ту пору краски стоили дорого, и бедный молодой человек видел свою палитру немного голой. В рамках этой нищеты он был невероятно сердечно богат и чувствовал это; его пожирал избыток гениальности. Приехав со своими друзьями в Париж или, может быть, из-за собственного таланта, он встретил вскоре возлюбленную, одну из благородных и щедрых душ, которая была готова была пострадать ради великого человека, выйти замуж за страдания и постараться понять их причуды, делаясь сильнее в нищете и любви, как другие неутомимо черпают роскошь и производят смотр своей бесчувственности. Улыбка блуждала по губам Жилетты, озолотившей чердак и осветившей его небесным светом. Солнце не сверкает всегда, но она всегда была здесь, сосредоточенная на своей страсти, связанная со своими счастьем и страданием, утешавшая гения, которого, прежде чем он предался искусству, переполняла любовь.
– Послушай, Жилетта, посмотри.
Пораженная и радостная девушка прыгнула к художнику на колени. Она вся была грациозная, прекрасная, красивая, как весна, наделенная всеми женскими очарованиями, и светилась огнем прекрасной души.
– О Бог! – воскликнул он, – я никогда не осмелюсь ей сказать!
– Тайна? – спросила она. – Я хочу ее знать.
Пуссен оставался в раздумье.
– Итак, скажи.
– Жилетта! Бедное любящее сердце!
– О! Ты чего-то хочешь от меня?
– Да.
– Если ты желаешь, чтобы я еще позировала тебе, как в тот день, – повторила она, немного надувшись, я никогда, больше никогда не соглашусь, так как там, в эти моменты, твои глаза ничего мне не говорят. Ты совсем не думаешь обо мне, однако смотришь на меня. Любишь ли ты меня больше, копируя другую женщину?
– Может быть, – сказал он, – если б она была бы очень уродлива. – Эх! Хорошо, – продолжал Пуссен серьезным тоном, – если моя слава пришла, если мне суждено сделаться великим художником, тебе нужно будет пойти позировать к другому?
– Ты хочешь меня проверить, – сказала она. – Ты хорошо знаешь, что я не пойду.
Пуссен склонил свою голову на грудь, как человек, переживающий радость или страдание слишком сильно для своей души.
– Послушай, – сказала она, потянув Пуссена за рукав его изношенного камзола, – я тебе говорила, Ник, за тебя я отдам мою жизнь; но я никогда не обещала тебе, я, живая, отречься от моей любви.
– Отречься? – переспросил Пуссен.
– Если меня также изобразит другой, ты перестанешь меня любить. И я сама найду себя недостойной тебя. Повиноваться твоим капризам, это ли не природная и простая вещь? Вопреки себе, я счастлива и сама горда, что сделалась твоим дорогим капризом. Но для других… Уж нет.
– Извини, моя Жилетта, – сказал художник, кинувшись перед ней на колени. – Мне меньше нравится быть любимым, чем знаменитым. Для меня ты прекраснее, чем фортуна и честь. Пойдем, бросим мои кисти, сожжем эти эскизы, Я себя обманывал. Мое предназначение – любить тебя. Я не художник, я влюбленный. Пускай погибнет искусство и все его тайны!
Она восхитительная, счастливая, очаровательная! Она царствует, она инстинктивно чувствует, что искусство забыто для нее и кинуто к ногам, как зерно ладана.
– Однако я не то, что этот старик, – продолжал Пуссен, – он не сможет увидеть в тебе женщину. Ты само совершенство!
Читать дальше