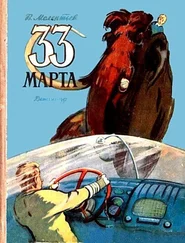Потом звонили ученые Америки, Швеции, Канады, Судана и еще многих, многих стран. Так что ужинать, в сущности, было некогда. Наконец, когда над сопками взошла луна, звонков стало меньше, и дедушка сказал:
– Пора спать, ребята. Давайте устраиваться.
Он хотел было разбить палатку, но ребята упросили его не делать этого. Так хорошо светили звезды, так таинственно шумели деревья, что спать в палатке казалось просто невозможным. Тузик застыл черной волосатой громадой, сливаясь с темными кустами. Изредка звонил радиотелефон, но дедушка не снимал трубки.
Все четверо устроились на одеялах. Женька уснул первым, потом замолкла Лена, утих и дедушка. Только Вася еще долго лежал и смотрел в темное небо, на далекие звезды. Он думал о себе, о Лене, о том, что было бы очень хорошо учиться с ней в одном классе, а в каникулы отправляться в пионерские походы. Глаза у него стали слипаться, и он задремал, а проснулся оттого, что ему показалось, будто звонок радиотелефона звенит особенно настойчиво и как-то мелодично, словно вокруг падают льдинки.
Вася открыл глаза, и на светлом фоне неба, прямо перед собой, увидел склоненное лицо матери.
– Вася… – тихонько и очень нежно сказала она. – Васенька…
У нее было такое испуганное, такое милое и любящее лицо, что Вася, еще не проснувшись как следует, почувствовал, что на глаза навернулись слезы и сердце радостно сжалось.
– Мама… Мамочка!
Он прижался к ней, обнял за шею и зарылся озябшим лицом в теплый пуховый платок. Он знал, что виноват перед ней: и за неудачную лыжную прогулку, и за то, что все последние дни он даже не вспомнил о ней, а все время думал только о Лене. Он все знал, все понимал, но теперь это казалось таким далеким, таким неважным и никому не нужным, что он сейчас же сам забыл обо всем этом. Ведь самое главное, самое важное свершилось: мать была рядом. Он оторвал лицо от ее платка и увидел отца – тоже встревоженного и радостного.
– Ах, боже мой, Вася, – сказала мама, – ну, как же это так получается…
– Ладно, ладно, мама! – сказал отец. (Он часто называл жену мамой.) – Ладно. Мы все это потом решим.
И тут только Вася заметил, что в стороне, скромно опершись на лыжные палки, стоит Саша Мыльников и из-под его сбитой на затылок ушанки стекают струйки пота. А дальше стоят отец Саши и двое соседей. И, уже присматриваясь, Вася увидел, что вокруг снег, что все еще метет поземка и оранжевое робкое солнце скрывается за лиловеющей грядой сопок.
– Эх, ты! – сердито сказал Саша и нахлобучил ушанку. – Не мог даже удержаться, чтобы не заснуть! А если бы замерз?
Вася Голубев молчал. Он еще ничего не понимал.
Глава двадцать восьмая. От автора
В маленьком деревянном домике Голубевых очень тепло и уютно. Только что ушли ребята из кружка «Умелые руки», причем круглолицый и румяный Женька Маслов под конец не утерпел и сказал лежавшему на диване Васе Голубеву:
– Даже замерзнуть как следует не сумел: ничего не отморозил.
Вася вздохнул, потер шишку на лбу, но промолчал.
Он проводил ребят печальным взглядам и грустно сказал мне:
– Вот видите, я же говорил, что надо мной будут смеяться!
– Ну что ж, – ответил я. – Ведь это никому не запрещается.
– Верно, конечно. Но мне очень не по себе. Мамонтового зуба мы ведь так и не нашли.
– Ну и что ж? Придет весна, и мы его обязательно разыщем. И папа тебе обещал, и я даю слово.
Мы помолчали. Вася несколько раз вздохнул и сказал:
– Я рассказал вам все так, как было на самом деле. Пусть мне даже приснилось, что я побывал в две тысячи пятом году. Но мне все-таки многое неясно.
– Что именно, Вася?
– Ну вот, допустим, что со мной все это произошло на самом деле. Тогда все-таки сколько мне было лет в то время плюс тринадцать, плюс шестьдесят три или минус тридцать семь? И еще одно непонятно: я пережил, пусть во сне, но все-таки пережил четыре дня. Какого же числа я все-таки разморозился? Двадцать восьмого марта, или тридцать второго марта, или первого апреля. Я просто ничего не понимаю. Помогите мне…
– Видишь ли… – Я решил задать ему еще одну загадку. – Положение усложняется еще одним обстоятельством. Ты же знаешь, что в среднем длина года равна тремстам шестидесяти пяти целым и двадцати пяти сотым дня. Вот почему раз в четыре года бывает високосный год, то есть такой год, который ровно на семьдесят восемь десятитысячных длиннее нормального, или, как говорят, тропического года. Люди поэтому решили не принимать во внимание эти тысячные все сто лет. А потом, через каждый век, прибавлять один день. Вот только я не помню, происходит ли такое прибавление обязательно каждое столетие или, может быть, какое-то столетие пропускается… Мне думается, что если все эти расчеты справедливы, то в двухтысячном году люди обязательно прибавят к существующему календарю еще один день. Но тебе нужно проверить эти расчеты.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу