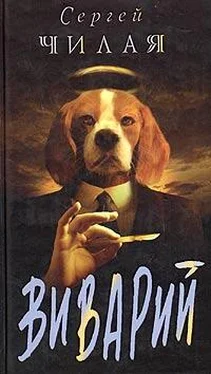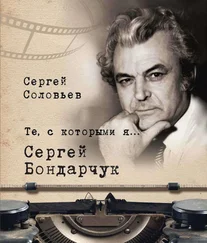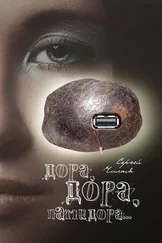— И это не секрет для нас всех, присутствующих здесь…, как и не секрет, что она была втянута в…, — он на мгновение замялся, стараясь подобрать наиболее мягкую формулировку, — …в незаконный оборот донорских органов, часть которых, как ни прискорбно, прошла через отделения Цеха… Во всей этой сомнительной истории, которая к счастью закончилась, для меня остается непонятным одно: зачем было убивать молодую беременную женщину только ради того, чтоб имплантировать больному Рывкину…, человеку сомнительной репутации… и пьянице человеческий зародыш…?
Зал удивленно и негромко загудел. Ковбой-Трофим встал, подавляя гул, уверенно и легко, демонстрируя, что возраст — категория, давно укрощенная им, почти бессмертным всемогущим директором Цеха, не только создавшим институт из ничего, на голом месте, но обеспечившим всех их, сидящих здесь, учеными степенями, званиями и должностями, и неплохими гонорарами, которым могут позавидовать хирурги многих, если не всех московских клиник. Отпил из стакана с подстаканником темно-оранжевую, почти коричневую жидкость и сказал:
— Мы все понимаем, как ей досталось… и что это стоило здоровья…
— Мне это стоило гораздо больше, — подумала Лопухина, но ничего не сказала.
—…и как она инстинктивно жаждет реванша, припоминая трагическую судьбу своего клана, — продолжал директор. — Все этих сосланных на каторгу, в ссылку, невинно убиенных благородных, хорошо образованных и когда-то состоятельных людей Лопухиных… Не станем придавать значения словам… Надо время, чтоб она полностью восстановилась… физически… Жить с единственной почкой очень тяжело, зная как легко любая банальная инфекция может вывести ее из строя… А душевных сил у очаровательной Елены Александровны хватит на всех нас, присутствующих здесь… Спасибо… Все свободны… Досвиданья…
А зал сидел…, молчал… и, похоже, не собирался расходиться…
Лето в этом году было приятным во всех отношениях, как гоголевская женщина, и не хотелось думать, вспоминая Эзопа, что не всегда оно будет…
А Москва, неупорядоченными рывками без ритма и мелодики, становилась все красивее, превращаясь из низкорослого купеческого города-подростка, а потом социалистически образцового мегаполиса-героя с целой кучей орденов неизвестно за что и куда прикрепленных, с редкими вкраплениями архитектурных шедевров, в одну из самых современных, комфортабельных и привлекательных столиц мира. Так, наверное, разбивая скорлупу изнутри появляется на свет в рванном джазовом ритме птенец… и становится центром вселенной…, или собирает мальчуган редкостный трансформер, претендующий на уникальность…, как галактика…
В это лето хаотично возводимые современные дома-стиляги с крышами-шапочками на любой вкус и даже целые кварталы, независимо от предназначения и расположения, еще недавно казавшиеся странно, даже вызывающе, эклектичными и бездарными в море стандартных и убогих социалистических коробок-построек из под дешевых туфель, вдруг начали выстраиваться в удивительно гармоничную чуть синкопированную мелодику инновационных архитектурных форм, зазвучавших поразительно слаженно, торжественно и величественно, и сразу возникло неизвестно откуда ощущение неизбывной уверенности в собственных силах и больших денег, поселившееся в воздухе московских улиц и площадей, и придающих почти сказочную прелесть всем этим Немецким слободкам, Чистым прудам, Солянке, Цветному бульвару…
Фрэт теперь знал не хуже старожил-таксистов свой город и очень любил, гордился им и понимал, и московские запахи стали такими же родными и близкими «до боли», как любил повторять вернувшийся из ссылки одноглазый дворняга Пахом, на котором не стали делать эксперименты в чужом институте, будто Москва — любимый Виварий, только что отремонтированный, скорее выстроенный почти заново и с иголочки оснащенный старательными американцами…
Кабинет Эйбрехэма с огромным окном во всю стену походил на офис, что расположены обычно на Пятой авеню, а лаборантская, в которой ночами обреталась Слава, превратилась почти в гостиничный номер с письменным столом, кожанными креслами и большим диваном с дистанционным управлением — remote control, который настойчивый ветеринар нашел в одном из нью-йоркских мебельных магазинов…
— Каждая лабораторная собака заслуживает отдельного номера, — говорил Авраам Лопухиной по-английски на полном серьезе: русский ему не давался, кроме нескольких матерных слов, которым научил его кто-то из служителей Вивария, произносимых с такими искажениями, что понять кого он имеет… в виду было невозможно. Ветеринар постоянно использовал Славу переводчиком и был счастлив этим, а она демонстрировала пострясающие способности в английском, забывая окать, и теперь ее часто приглашали в Цех на синхронные переводы и переговоры, и хорошо платили…
Читать дальше