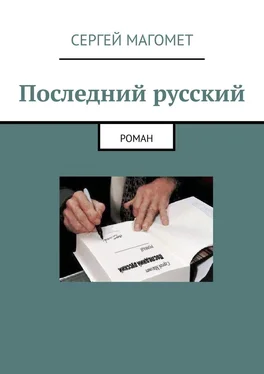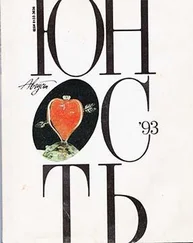Кстати, нас, детей, он учил еще более важным технологиям. Например, как обертывать головки спичек фольгой, непременно с бумажной прокладкой, поджигать, чтобы спички выстреливали, как настоящие ракеты.
Он был высокого роста, искренний, веселый человек. Вдобавок, неукротимый буян и пьяница. Заводился с полуоборота. Возможно, кое-какие его выходки отдавали свинством или первобытной глупостью, но нас, детей, это смешило ужасно, казалось геройством, ухарством. Папа, кстати, старался не отставать. Как-то ночью в проливной дождь, напившись у нас дома, приятели вскарабкались на подоконник, такая им пришла фантазия, и поливали вниз прямо с девятого этажа вместе с дождем, чтобы «на свежем воздухе». В другой раз, заспорив об особенностях стилей пловцов, не то «кроля», не то «баттерфляя», отправились на набережную Москва-реки и стали наперегонки плавать в мазутной воде до бакена. А потом, схватив под мышку свою офицерскую форму (они обычно носили военное), убегали по переулкам от преследовавшего их милиционера.
Мама объясняла, что если моему папе главным образом хотелось покрасоваться перед компанией, то в дяде Гене проявлялась азартность натуры в чистом виде. Разница характеров видна невооруженным глазом. На обычных спортивных забегах в родной академии, когда лишь требовалось уложиться в умеренные нормативы, дядя Гена бешено устремлялся вперед, непременно, с пеной у рта, приходил к финишу в числе первых. В то время как мой отец ленивой трусцой являлся в числе последних, лишь бы уложиться в положенный результат. Если где случалась драка, дядя Гена тут же бросался «разбираться» в самую гущу, и «фонарей» обычно ему успевали навешать больше всех. В то время как мой отец, не то чтобы трусоватый, успевал снять и спрятать очки аккурат к завершению драки.
Еще мама рассказывала, как однажды дядя Гена подрался в баре высотной гостиницы «Украина» с каким-то негром, настоящим негром, черным, как пушка, до синевы, нарочито стряхнувшим пепел сигареты ему в блюдечко. Нас же воспитывали не расистами. Негры – наше все. Но по слухам они все-таки были особенный народ: обыкновенную селедку жарили на сковородке «и ели», а то и прямо в метро у колонны надменно справляли нужду. И полной эрекции у них никогда не случалось, а потому и прилегание и изгиб в женском лоне какой-то физиологически особенно выгодный, сладострастно провоцирующий. Нет, не расистами же. За эту драку дядю Гену исключили из партии, что было равноценно гражданской казни, а затем и из академии поперли. Открытий давно не делал, что ли. Хотя многие, даже из высокого начальства, сочувствовали. Да и не первый раз попадался. Не помогли и секретные разработки, не спас талант электронщика. Хорошо еще квартиру не отобрали.
К моей маме дядя Гена относился с бережной нежностью, называл отца дураком и таким сяким, променявшим ее на «какую-то». Частенько заходил к нам посидеть, по-дружески, нисколько не смущаясь, даже после того как мои родители развелись. Он любил изливать ей душу пьяный. Не жене. А мама, в свою очередь, называла таким сяким его – что пропивает талант. Мама любила папу, который ее бросил, а дядя Гена любил тетю Эстер, свою жену, которая, между прочим, изрядно погуливала. Мама всегда принимала дядю Гену с улыбкой, даже когда тот стал ужасно спиваться. Однажды дядя Гена пришел к нам домой с парада в красивой голубой шинели, полной офицерской форме до того пьяным, что просто рухнул поперек комнаты, большой, огромный человек, из угла в угол, и его невозможно было сдвинуть. Так и лежал до самого утра, как надгробная плита самому себе. Я приседал около него на корточки, удивленно рассматривал, трогал шитые золотом и красным атласом погоны майора, золотисто-желтый с тонкими черными полосками ремень, золотую кокарду на фуражке, напоминавшие мне о моем отце, который тогда уже не жил с нами.
Какое-то время дядя Гена еще пытался продолжить научную карьеру в закрытом институте. Потом, вместо нобелевских «лазеров-мазеров», халтурил в радиомастерской. Затем и вовсе принялся лудить-паять в металлоремонте кастрюли и утюги. Потом его вообще отовсюду повыгоняли, и он ужасно опустился. Хотя деньги, которые занимал у мамы, отдавал кровь из носу. Кончилось все печально. Как-то поутру горячая тетя Эстер обнаружила его окоченелым, совсем-совсем остывшим – прямо в постели рядом с собой.
Павлуше, можно сказать, повезло. То есть что он в тот момент находился у бабушки в Киеве. А потом как будто и думать забыл. Это я заплакал, когда узнал. Правда, однажды, когда смерть дяди Гены стала так сказать фактом истории, Павлуша вдруг подошел ко мне в чрезвычайном возбуждении: «Ты знаешь, мы когда-нибудь умрем!» – «Ну и что? Это ж ясно! Что об этом толковать?» – пожал плечами я. «Ну как ты не понимаешь?! – воскликнул он. Просто вдруг осознал, что смертен. Несколько дней ходил в жуткой депрессии, все заговаривал об одном и том же, как помешанный. Может, я сам тогда еще этого не осознавал?
Читать дальше