– Помнишь? – спрашивает мой отец.
– Не понимаю твоего вопроса, – я не понимаю его вопроса.
– Ну, помнишь?
– Мне тогда было не пять лет.
– Я каждый день думаю, как оно было бы, – говорит он через миг. Тяжело вздыхает. Осматривается, выглядывает кого-то, может, еще надеется, что сюда доедет Гжесь. Но Гжеся нету, Гжесь спит дома.
– Наверняка новой семьи у тебя не было бы, – отвечаю я.
– Наверняка не было бы, – соглашается он.
– И что? Ты изменился бы? Если бы смог? – спрашиваю я, не пойми зачем. Вопрос выходит из меня до странного легко, как пар изо рта.
– Что это вообще, сука, за вопрос, Миколай? – говорит он возмущенно.
– Неважно.
В худшие моменты я, естественно, во всем обвинял его. Мне хотелось поехать в Зыборк, встать напротив него с камнем, спрятанным в кулаке – чтобы было тяжелее, – врезать его по морде так, чтобы у него мигом вылетела половина зубов, и крикнуть: «Это твоя вина, сучара ты ёбаная. Это из-за тебя у нее были проблемы, потому что все то говно, которое ты в нее вливал, копилось в ее теле, словно ил!»
А потом я отгонял эту фантазию, потому что с тем же успехом мог так кричать на самого себя. Мы все трое приложились к случившемуся.
– Я знаю одно, – говорит через секунду отец. – Будь она тут со мной, сказала бы, что мне стоит все отпустить.
– А что, собственно, тебе отпускать? – спрашиваю я.
– Она сказала бы, что не хочет смотреть на толпу на моих похоронах, – говорит он через миг.
На похоронах Берната, идя в толпе, я не узнавал никого. Нервно высматривал молодого Берната, но тот не приехал – якобы отослал эсэмэску матери, что прилетит только через неделю. Не дали ему на работе отгулы, рыдала Бернат. Повторила это, кажется, с десяток раз – наверняка, чтобы повторять хоть что-то. Меня обрадовало, что я его не встречу. Не хотел встречать никого из старых знакомых. Такие встречи – хуже похорон. Страшнейшая пытка – желание отыскать того, кого ты некогда знал, в чужом лице, появляющемся из ниоткуда, а потом – рассказы о себе в простых, веселых фразах, необходимость притворяться кем-то, кем ты был десяток лет назад, исключительно чтобы установить хоть какое-то понимание. Люди исчезают из жизни других. Так должно быть. Это естественно. Мы отчего-то разбежались, и давайте теперь не изображать, что мы знаем друг друга, понимаем, живем в том же самом мире, говорим на одном языке.
Ну и конечно, мне бы пришлось, кроме всего этого, объяснять, что я тут вообще делаю. Потому что я ведь не приехал специально на похороны совершенно чужого мужика. Никто бы в это не поверил, даже такой идиот, как молодой Бернат.
Над могилой Берната держала речь губернаторша Зыборка. Я впервые видел эту тетку вживую. Напоминала обернутую бежевой тафтой куклу. Была еще искусственней, чем ее плакат; крупная и округлая, раздень ее, и наверняка взгляду откроется пенек с прицепленными конечностями и головой. Маленькие глазки непрерывно устремлялись к собственным туфлям, словно бы она чего-то стыдилась. Говорила нескладно и некрасиво, старалась представить смерть Берната, человека, который был столпом здешнего общества, как огромную потерю. Проглатывала целые фразы, глубоко вздыхала, отдельные предложения отделяла выразительным длинным «ыыыы». Казалась существом таким глупым, что потерявшимся тут и сейчас. Голос ее хрипел, но не столько из-за чувств, сколько из-за частого курения тонких сигарет, пачку которых она машинально сжимала в руке.
Пока она говорила, отец не сводил с нее взгляда. Старался заставить ее, чтобы и она взглянула ему в глаза, но та упрямо всматривалась в свои туфли. Рядом с ней стояло несколько печальных чуваков, на глазок – тридцати с небольшим, усатых, втиснутых в идеальные костюмы от «Вулчанки», с черными начищенными туфлями. Глядели на гроб с явной обеспокоенностью, походили на детей, которые смотрят на коробку съеденных конфет. В какой-то момент один из них громко высморкался. Когда я посмотрел на отца, увидел, что он стоит неподвижно, но изо всех сил сжимает кулаки.
Потом я сбежал оттуда, пошел на могилу матери – так быстро, как только сумел. Сразу же потерялся; кладбище изменилось, хотя бы потому, что по какой-то причине тут вырубили большую часть деревьев и понаставили урн; некоторое время я петлял, не в силах попасть на место, в какой-то момент просто побежал, не думая о том, обратит ли кто-то на меня внимание, потом остановился на миг, чтобы перевести дыхание, и понял, что стою у могилы Дарьи. Под простым белым крестом лежала кипа сухих цветов. Рядом громоздились пустые, треснувшие скорлупки от кладбищенских лампад. Тут давно никого не было. Может, под кучей сухих цветов, положенных еще на День поминовения – а то и раньше, – был наш снимок на Психозе, который кто-то сюда приволок. Я надеялся, что нет. Не хотел проверять. Только прикоснулся двумя пальцами к кресту, который оказался холодным, грязным, мокрым на ощупь. И я сразу же побежал дальше, поскольку почувствовал резь в желудке.
Читать дальше



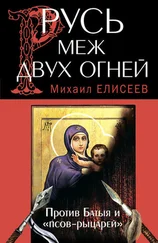




![Якуб Жульчик - Холм псов [litres]](/books/432257/yakub-zhulchik-holm-psov-litres-thumb.webp)



