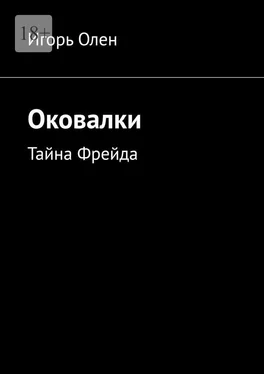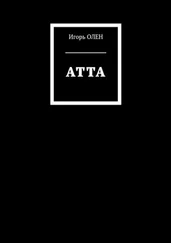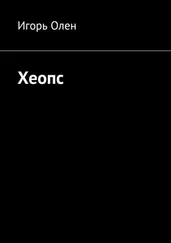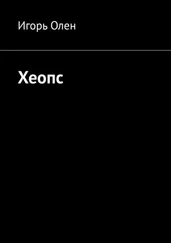Он помыл Дашу в ванне, сняв с неё рвань; одел её в платье новое; обработал ей рану. Даша дичилась. Спать он лёг поздно, долго прислушиваясь к шумам и веря: час-другой – и жена будет с ним.
Марго не пришла.
Назавтра он был в полиции; требовали открыть, кто мстит ему, если выкрали дочь сперва, а теперь – супругу. Подозревали его, не верили, что безвинен, ибо в те годы каждый был пройда и нарушитель буквы закона.
Дочь на расспросы не отвечала, выяснить, где держали её, не вышло. Так что от жизни где-то и с кем-то, канувшей в Лету, разве что шрам – тонюсенький шрам от лезвия. По Марго тосковал он меньше, так как сгорел на Даше. Да и внушали, что, мол, «сама ушла»; дескать, «бабы изменчивы». Раз привиделся сон: жена спит с другим беременной в грязном месте, схожем с халупой… Странно, так как в селе она не могла быть, не прижилась бы там, москвичка, гид из музея Глинки и утончённая чрезвычайно. Сон вызвал ревность. Сон походил на правду, точно он, Кронов, был и насильником, и тем самым, кто наблюдал во сне акт в подробностях. Сон внушал, что Марго не сбежала, но поневоле сделалась жертвой.
Дашина драма выхолила в ней вдумчивость, сухость, сдержанность, здравомыслие и привычку к анализу, к разделению на пригодное и негодное лично ей, что значило, что она раздвоилась. Цельной дочь не была: ей вечно чего-то недоставало, сходно в себе находила пятна. Спрашивала про мать часто… Как быть с пропавшей? Выдумать небыль? Вспомнив про окские одичалые кладбища, Кронов, выбрав запущенный жалкий холмик, справил надгробие; показал, где «мама». И Даша плакала. Кронов понял: всё сделал верно. Он по себе знал, как тяжела тоска неизвестности.
Нынче тайна раскрыта, и он расскажет всё.
Резко выжав сцепление, – в миллионный раз? – Кронов вновь надавил на тормоз. Воздуха мало, душно и пыльно, глаз футерует как бы стеклистость… Воет навстречу реанимация… пробка еле ползёт…
У церкви, крошечной и по сельским меркам, он повернул к воротам, сунул охране пропуск.
– Палыч, подбрось! – взмолились, и он впустил в салон ветхой ржавленной «двойки» инока в рясе, длинного, аскетичного.
– К влáстем, – строго велел тот.
Ехали по огромному внутреннему двору за стенами, окружавшими древние, очень тёмного кирпича, строения. Постсоветский завод был собственник территории, но ужался в домок в углу, а другие объёмы сдал арендаторам: складам, фирмочкам, ООО и сервисам, и на каждом реклама в ярких кричащих пошлых тонах.
– К начальству, – супился инок. – Ибо в грехах увязли, Бога забыли; страсти да похоти.
– Люд таков, каков Бог, – встрял Кронов.
– Еллинска борзость и философия! – оборвал монах. – Будет день, вопиять зачнём и восхочем во Бога, но не в сократов. Близок конец живым!
Что чернец знал Сократа (470 – 399), нравилось Кронову, как и что предвещался крах человечества. Этой страшной идеей Кронов зациклен был, но иначе. Инок грехом считал гедонизм, стремление к удовольствию, дескать, «матери всех пороков». Кронов, напротив, был убеждён, что дьявольски мало счастья как удовольствий, неги, экстазов – вот в чём опасность и деградация. Истязателем жизни Кронов мнил разум, всё поделивший на: «я»/«не-я», «чужое»/«своё» et cétera. Пря с монахом преобразилась бы в жаркий спор, знал Кронов, и он молчал недолгий маршрут до места, меченный видом движущихся авто, погрузчиков и людей.
– Спаси Бог, – вылез чернец. – Куда?
– За мной, прошу.
Прошагали к домку под тополем и скрипучею лестницей подняли́сь. Работавший здесь полгода, Кронов учуял стойкий лекарственный аромат, ведь офис – бывший медпункт. В приёмной томилась блёклая, сорока лет дама, никшая за компóм, за «трёшкой» из 90-х.
– Кронов, Мокей Ильич… – повела она.
Двери, скрипнув, выдали лысину; корпулентный тип в мятом старом костюме, зыркнув, позвал:
– На старт, Нин!
Та быстро встала.
Двери закрылись. Вскоре раздался скрежет и стуки, возгласы «э!» и стоны.
Тренькал «Маяк» с рекламой от гербалайфа; инок стоял сурово и непреклонно. Дама «давала» лысому шефу, что знали все, хоть чувственной не была, «тупила», квёлая и инертная. Конкуренция загнала бы её в уборщицы или даже на пенсию, а сексаж гарантировал ей «ресепшн», плюс стаж с зарплатой. Типу, каков был подвижный, лысый Мокей Ильич, эта дама служила в двух амплуа.
Здесь явственный происк разума: ведь разумно ради «культурных» важных процессов секвестровать досуг, то есть «трахаться» походя, ибо секс отвлекает от фабрикации куч «добра», сбивает рабочих с толку. То есть разумно секс утолять меж делом.
Читать дальше