Симон вырос в постоянном страхе перед его приступами. В то время он еще ничего не понимал в том бреде, который нес отец, – он запомнил только горловые звуки, скрежет зубов, нервную дрожь и, конечно же, удары кулака в лицо матери. Вот каким предстал перед ним великий германский дух.
Когда отец вознамерился прикончить мать совком для угля, одиннадцатилетний Симон вмешался и получил удар в лоб. Надбровная дуга была рассечена. Сквозь алую пелену он видел, как сыпались удары на валявшуюся на полу мать, пока она не превратилась в истерзанное тело, в груду развороченной плоти. В конце концов отец убежал – и никогда больше не вернулся. На самом деле, хотя ни Симон, ни мать об этом не знали, у мерзавца в кармане уже лежал приказ о мобилизации. Добро пожаловать в окопы… И чтоб ты сдох с раззявленным ртом от газа и снарядов .
Молитвы юного Симона были услышаны. Петер Краус погиб, живьем засыпанный в траншее. Ребенок и мать благословляли Большую войну, избавившую их от монстра.
Они перебрались в Нюрнберг и благодаря маленькой пенсии, к которой прибавлялись доходы матери, подрабатывавшей шитьем, выжили. Очень рано Симон тоже начал работать, в основном в пивных.
Вот там он и наблюдал зарождение нацизма, самого настоящего.
На сегодняшний день официально считалось, что причиной рождения Коричневого дома стала немецкая капитуляция, гнусный Версальский договор, унижение германского народа. Возможно. Но нацизм родился в основном из пива. В затхлых испарениях хмеля и алкогольных парах, пропитывающих мозги. В прокуренных пивных, воняющих отрыжкой и мочой, которые по вечерам в свете колеблющихся свечей походили на огромные кровоточащие человеческие органы, где прорастают эти чертовы антисемитские идеи, это желание всех поставить на колени и раздавить народы Европы…
Работая сверхурочно в Мюнхене, Симон даже видел собственными глазами Гитлера, который тогда только начинал. В то время он выглядел скорее бродягой, которому бросали монетку, чтобы тот показал свой коронный номер. Люди смеялись, некоторым нравилось, но Симон уже тогда понял: этот человек был раковой опухолью, и она начнет распространяться чудовищными метастазами…
Дома он не был счастлив. Мать обращалась с ним так, словно он чудом уцелел на Большой войне. Он был выжившим. Он был принцем. Но Симон не желал ни такой любви, ни привилегированного положения. Принц – да, тут он был согласен. Но только для матери. Симон Краус еще покажет миру, на что он способен. Вот только придется поторапливаться, потому что нацизм собирается заняться тем же самым.
В его маленькой, на редкость красивой голове дальнейший путь всегда представал бегом наперегонки с национал-социализмом. Двадцать лет спустя можно было сказать, что он эту гонку выиграл, – во всяком случае, он заполучил свое место под солнцем раньше, чем фюрер все разрушил.
Благодаря блестящей учебе, продуманному выбору, с кем спать, и весьма сомнительным махинациям ему удалось пробраться на самую вершину. Из-за войны все пойдет прахом? Не стоит беспокоиться, он сумеет выйти сухим из воды. Сбежит в Америку или женится на богатой вдове. А может, и то и другое.
Одно неоспоримо: он видел, как зарождался нацизм, и увидит, как тот умрет. Вся штука в том, чтобы его пережить.
Симон был всего в паре сотен метров от отеля «Адлон» – уже показались Бранденбургские ворота, – но пот лил с него градом. Он проклял себя за то, что не зашел после обеда домой: встреча с Адлонскими Дамами требовала полной боевой готовности.
В конце концов он нашел скамейку в теньке, чтобы немного подсохнуть, присел и мгновенно заснул, как какой-нибудь бродяга.
20
– Дорогой, а как тебе вечернее платье и шелковый трикотаж?
– Белое или черное?
– Белое.
– А время года?
– Весна. Может, градусов двадцать к вечеру. Что накинуть поверх?
– Вязаное болеро. Я бы сказал, из ангорской шерсти, розовое или белое.
– Именно! – воскликнула Магда, поднимаясь с подлокотника кресла Симона. – А что я тебе говорила!
Она уставила указательный пальчик на другую женщину, которую Симон не знал; ее глаза торжествующе блеснули.
– И с огромным бантом вдобавок!
Она снова повернулась к Симону, опустилась на одно колено и пристроила подбородок на его скрещенные руки.
– Лапочка, – проворковала она медовым голосом, – ты и впрямь самый лучший!
Симон принял комплимент с должной скромностью, лишь согласно кивнув. Он повсюду рассказывал, что бывал в Париже на показах Коко Шанель, Жанны Пакен и Люсьена Лелонга, что было чистым враньем. Он тогда жил в грязной каморке для прислуги, и, сказать по правде, в 1936 году в Париже немецкое происхождение служило не лучшей визитной карточкой. Ему еле-еле удалось переспать с несколькими пожилыми дамами, встреченными в дансинге в «Куполь», чтобы было чем заплатить за угол.
Читать дальше





![Жан-Кристоф Гранже - Присягнувшие Тьме [Литрес]](/books/30798/zhan-kristof-granzhe-prisyagnuvshie-tme-litres-thumb.webp)


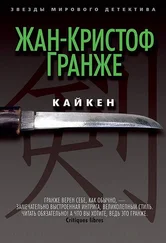


![Жан-Кристоф Гранже - Земля мертвых [litres]](/books/416895/zhan-kristof-granzhe-zemlya-mertvyh-litres-thumb.webp)
