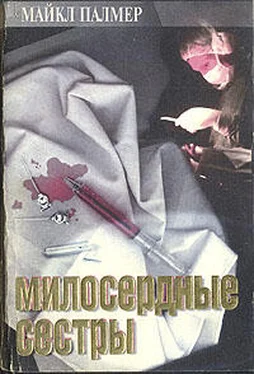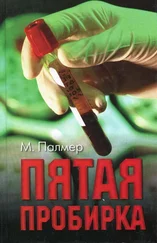Майкл Палмер
Милосердные сестры
Посвящаю с любовью моим сыновьям, Мэтью и Дэниэлю, и моим родителям.
– Все хорошо, мама, все хорошо... я здесь...
Тонкие пальцы тянутся к больничной накрахмаленной простыне. Медленно они касаются белой отекшей руки, стянутой лейкопластырем и кожаным ремнем.
Больная, чьи руки и ноги скованы подобным образом, лежит и, не мигая, смотрит на потолок с обсыпавшейся штукатуркой. Ритмичное опускание и поднятие простыни у груди, движение языка, облизывающего пересохшие губы – единственные признаки жизни, теплящейся в ней. Беспорядочно разметавшиеся черные волосы с обильной сединой обрамляют лицо больной, которое, видимо, когда-то было прекрасным.
Теперь же кожа плотно обтянула ее кости, и темные круги боли затеняют ее глаза. И хотя женщине можно легко дать лет шестьдесят пять, на самом деле она только пять месяцев назад справила свое сорокапятилетие – и именно в этот день был поставлен диагноз ее неизлечимой болезни.
Возле ее кровати с медными украшениями сидит юная девушка, сжимая пальцы и отвернув лицо, по которому катятся слезы. На ней тяжелое темно-синее пальто и зимние сапоги, с которых стекает тающий снег, образуя на линолеуме пола небольшую лужу.
Прошло пять беззвучных минут; в напряженной тишине настолько тихо, что слышно, как в других палатах кашляют и ворочаются больные. Наконец девушка снимает пальто, подвигает стул поближе к изголовью кровати и снова говорит:
– Мама, ты меня слышишь? Тебе по-прежнему так же больно? Мама, ответь, пожалуйста. Скажи, чем я могу тебе помочь?
Прошла целая минута, прежде чем женщина ответила. Ее голос, мягкий и хриплый, заполняет комнату:
– Убей меня! Ради Бога, пожалуйста, убей меня!
– Мама! Прекрати! Ты не понимаешь, что говоришь. Я позову сестру. Она даст тебе что-нибудь.
– Нет, дочка. Это не поможет. Лекарства мне дают, но боль вот уже много дней не проходит. Ты можешь мне помочь. Ты должна мне помочь.
Пятнадцатилетняя девушка, впервые испытывающая столь сильное потрясение, в испуге посмотрела на капельницу, из которой прозрачная жидкость сочилась в руку матери. Она встала и сделала несколько нерешительных шагов к двери, но возобновившиеся стенания женщины заставили ее остановиться.
Поспешно она вернулась назад и встала в двух шагах от кровати. Из коридора донесся чей-то стон агонии. За ним второй. Девушка закрыла глаза и стиснула зубы, стараясь подавить в себе растущую ненависть к этому месту.
– Пожалуйста, подойди, – прозвучал умоляющий голос матери. – Помоги избавиться от этой боли. Только ты можешь сделать это. Подушкой, дитя мое. Просто положи ее на лицо и крепко нажми. Все произойдет очень быстро.
– Мама, я...
– Прошу тебя! Я люблю тебя. Если ты меня тоже любишь, ты не допустишь, чтобы я так страдала. Все говорят, что я безнадежна... Не допускай новых страданий твоей мамы...
– Я... я люблю тебя, мама. Я люблю тебя.
Повторяя шепотом эти слова, девушка осторожно приподняла голову матери и вытащила из-под нее тонкую жесткую подушку.
– Я люблю тебя, мама, – продолжала твердить, она, кладя на худое, измученное страданиями лицо подушку и со всей силой надавливая на нее. Она заставила себя вспомнить те счастливые дни, от которых веяло таким теплом... долгие прогулки весной... как они вместе готовили пироги... дымящиеся чашки с горячим шоколадом в зимние вечера...
Тело девушки было худым и легким; в нем еще только угадывались первые признаки женщины. Пытаясь усилить давление, она вцепилась в края наволочки и уперлась в подушку коленями, навалившись на нее всей тяжестью своего тела... как их трясло по дороге к озеру... пикники у самого края воды... гонки на плотах...
Движение под простыней слабело с каждой секундой и, наконец, замерло.
Рыдания девушки слились с шумом дождя, барабанящего в окно; она осталась лежать на кровати, не заметив вырванного клочка наволочки, зажатого в ее руке.
Спустя полчаса она поднялась, положила подушку на место и поцеловала в губы мертвую мать. Затем повернулась и решительно направилась по коридору больницы навстречу промозглому зимнему вечеру.
Было семнадцатое февраля. Шел 1932 год.
БОСТОН
1 октября
Утреннее солнце ворвалось в комнату прежде, чем из радиочасов раздались первые аккорды. Дэвид Шелтон, не открывая глаз, несколько секунд слушал, потом сказал себе, что это, должно быть, Вивальди и его "Времена года", скорее всего – концерт "Лето". Много лет подряд каждое утро он играл в эту игру. Однако дни, когда ему удавалось правильно угадать музыкальное произведение, выпадали не так уж часто, чтобы ими можно было скромно погордиться.
Читать дальше