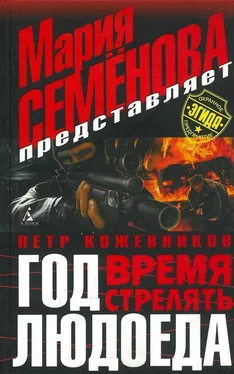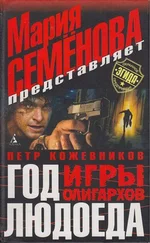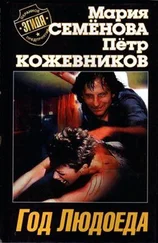— А ты? — Хьюстон перехватила Сашины руки, взяла его ладони в свои и крепко сжала, словно хотела согреть. Она с тревогой посмотрела ему в глаза. — Тебя же арестуют! Ты ведь мне сам сказал, что…
— А мать? С ней-то что? — Саша присел возле машины на корточки. — Она и так еле тащится и по два стакана колес в день закатывает, а тут… да ты только прикинь! Я и сам пока ничего не понимаю! Как это его убили?! Кто, почему? У него же охраны целый полк! У него статус неприкосновенности! Он же кандидат, а не какой-нибудь вокзальный прощелыга! Да нет, это все не так! Наташа, я не могу, я больше не могу, понимаешь?!
Кумиров встал на колени, прижался лицом к коленям сидящей в салоне Бросовой и зарыдал. Наташа обхватила его за голову и тоже заплакала, искажая гримасами свое смуглое лицо.
По шоссе продолжали мчатся машины, нашпигованные людьми, обремененными собственными проблемами, и никому из них было невдомек, что на обочине в «Жигулях» страдают два любящих друг друга человека, узнавшие пока только часть правды о своих трагических потерях.
— Всё, едем к матери! — выпрямился Александр. — Сейчас я ей позвоню. Нет, лучше ты! Давай! Нет, подожди, я сам!
— Как хочешь, Сашенька! Давай позвоним, а? — Хьюстон разжала руку, в которую Кумиров уже вложил засветившийся мобильник. — На, возьми!
Кумиров вернул себе мобильник, снял его с защиты, нашел номер телефона на Кронверкском и нажал на вызов. Стрелка поиска начала повторять свой короткий путь. Ну скорей же ты! Ну давай, шевелись! Ну ради бога!
Как иногда по утрам не хочется просыпаться! Особенно когда ты знаешь, что тебе никуда не нужно, никто тебя не ждет, да и вообще о тебе никто не помнит! Коля понимал, что он уже, кажется, да нет, он уже точно не спит, но все еще надеется вновь увязнуть в сладостной утренней дреме. Мысли и слова путались, проплывали, подавляя друг друга, разные, не всегда понятные картинки, начинали ныть и зудеть раны и ушибы, полученные им несколько дней назад во время смертельного боя с Петькой Желтым.
Да, со сном у него, пожалуй, нынче действительно уже ничего не получится, и теперь остается только как-то собраться с силами, чтобы признаться себе в своем окончательном пробуждении, открыть глаза и начать новый день.
А что, если Махлатке и по правде попробовать начать новую, совсем другую жизнь? Ну, ту самую, пока что для него совершенно неизвестную, о которой ему уже столько раз талдычили другие люди? Да хоть и тот же самый Данилыч или Следопыт? А что, мало ему в свое время менты на мозги давили, а главное, на совесть? Да кто ты, мол, такой? Долбежка вокзальная, да и только! Ты же, по жизни, вообще не человек, а так, жопник, вафлер, мразь, блевотина, ну самое херовое, что только вообще в жизни бывает!
Ага, так-то оно так, все они ему вячат примерно одно и то же — а сами? Он что, по их раскладу, напрочь слепым родился? Или у него уже собственная жопа стала такая бесчувственная? Они думают, Колька когда-нибудь забудет, как те же менты не один раз его хором в дежурке тарабанили? А Носорог со своими клиентами что с ним вытворяли? Ну ладно, Виктор Казимирович хоть своих корешей на бабки разводил и Махлаткину в принципе нормально отстегивал. Да и за новеньких положенную долю засылал. А чужие мужики, которых он на самосъеме кадрил, — от них он сколько раз чуть живым сдрискивал!
Ладно, пусть все они победят со своими правильными наставлениями, и он уйдет в глухую завязку. Хорошо, ну а как ему тогда жить-то? В натуре, пойти да в школу записаться? А что он там будет делать? А на хера ему, спрашивается, все эти задачки и диктанты? Да он, если захочет, любого профессора на бабки кинет, да еще и на его хату бандюков наведет!
Вот то-то и оно, что только на себя Кольке и остается надеяться! Ну а дальше-то как быть? Вон Федор Данилович говорит: «Сгниешь ты, Махлаткин, к двадцати годам от СПИДа!» А что, он разве и взаправду до двадцати лет жить собрался? Кто это такую глупость сказал? Зачем ему это надо? Поживет, покумарится, да и хватит! Как говорится, хорошего понемножку! Дальше-то, после двадцати лет, чего там интересного может быть? Вон эти старики по Гостинке шастают, малолеток мандят. На них только посмотришь, так сразу блевать тянет!
Да он, между прочим, и не стремится взрослеть! Если бы ему сейчас сказали: проживешь еще только десять лет, но таким же пацаном, не взрослея, — он бы на такие условия тотчас согласился! Ну не в кайф ему волосеть, как все эти мужики! И голоса такого грубого ему не надо! И такого живота! И такой жопы! И таких пальцев на ногах с кривыми ногтями!..
Читать дальше