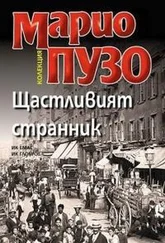В ту ночь и в последующие недели Майкл Корлеоне понял, отчего в простом народе, где придерживаются традиций старины, придают такую цену девической чистоте. То было время полного упоения чувств, неизведанного дотоле, — чувственности, замешанной на ощущении своей мужской силы. Аполлония в эти первые дни покорилась ему безраздельно, почти что рабски. Пробуждение от непорочности, когда ему сопутствует доверие, сопутствует любовь, восхитительно, как вкус плода, сорванного с дерева в самую пору.
С появлением Аполлонии довольно пасмурная мужская атмосфера на вилле оживилась. Свою мать молодая отправила домой назавтра же после первой брачной ночи и восседала за общим столом, скрашивая трапезы веселым обаянием молодости. Дон Томмазино приходил теперь обедать ежедневно, доктор Таза с новым воодушевлением плел старые бывальщины, сидя со стаканом вина в саду, где там и сям белели статуи, увенчанные кроваво-красными цветами. Так проходили вечера, а по ночам молодожены часами предавались горячечной любви. Майкл не мог насытиться дивно изваянным телом Аполлонии, ее медовой кожей, огромными карими глазами, сияющими страстью. Его сводил с ума аромат ее плоти, удивительно свежий, сладковатый, нестерпимо влекущий. Чистая страсть Аполлонии не уступала его чувственной одержимости, и часто, когда они в изнеможении засыпали, за окном начинало уже светать. Иногда, обессиленный, Майкл не сразу мог заснуть и, присев на подоконник, подолгу смотрел на обнаженное тело спящей. Прекрасно было в покое ее лицо — такие совершенные черты он видел раньше только на полотнах итальянских мастеров, у мадонн, которым все искусство бессильно было придать вид непорочности.
В первую неделю после свадьбы они то и дело уходили на прогулки, взяв с собой еду, либо совершали небольшие путешествия на «Альфа-Ромео». Но в один прекрасный день дон Томмазино, отведя Майкла в сторону, объявил, что благодаря его женитьбе каждому встречному по всей окрестности теперь известно, кто он и откуда, и необходимо принять меры предосторожности против врагов семейства Корлеоне, чья длинная рука способна дотянуться даже сюда, в потаенную глушь. Вокруг виллы поставлена вооруженная охрана, пастухам, Кало и Фабрицио, приказано круглосуточно нести караул в доме и в саду. После этого Майкл с женой больше никуда не отлучались. Он коротал время, обучая Аполлонию читать и писать по-английски, водить машину вдоль внутренней ограды имения. Дон Томмазино, погруженный в свои заботы, был в эти дни плохим собеседником — новая мафия в Палермо продолжала, по словам доктора Тазы, чинить ему неприятности.
Как-то вечером старая крестьянка, из тех, что прислуживали в доме, вынеся в сад блюдо свежих маслин, обратилась к Майклу со словами:
— А правду люди говорят, что вы — сын Крестного отца из города Нью-Йорка, дона Корлеоне?
Майкл видел, как дон Томмазино с отвращением покрутил головой — тайна стала всеобщим достоянием. Но женщина смотрела на Майкла неотрывно, как если бы от его ответа зависело многое, и он кивнул.
— Вы что, знакомы с моим отцом?
Женщину звали Филумена. Впервые с тех пор, как он попал сюда на виллу, лицо ее, морщинистое и смуглое, точно грецкий орех, осветилось улыбкой, обнажились потемневшие зубы.
— Крестный отец когда-то сохранил мне жизнь. И рассудок, — прибавила она, указав рукой на свою голову.
Ей явно хотелось сказать что-то еще, и Майкл улыбнулся ободряюще. Она боязливо проговорила:
— И правда, что Люки Брази нет в живых?
Майкл снова кивнул и удивился, увидев, какое облегчение отобразилось на старческом лице. Филумена перекрестилась.
— Так пусть же он, прости мне господи, жарится в аду до скончания веков.
Давнее любопытство к тому, что связано с Люкой Брази, сызнова пробудилось в Майкле; чутье говорило ему, что эта женщина знает историю, которую отказывались поведать когда-то Хейген и Санни. Он усадил старуху, налил ей вина.
— Расскажите про Люку Брази и моего отца, — сказал он мягко. — Я и сам кое-что знаю, но каким образом они сблизились, отчего Брази был так предан отцу? Ну же, не бойтесь, расскажите.
Морщинистое лицо Филумены с черными, как изюмины, глазами повернулось к дону Томмазино — тот неким образом дал ей понять, что разрешает. Так этот вечер ознаменовался для них рассказом Филумены.
Тридцать лет назад Филумена жила на Десятой авеню города Нью-Йорка, где подвизалась в качестве повивальной бабки в итальянской колонии. Итальянки беременели не переставая, и Филумена благоденствовала. Случалось, самих врачей вразумляла, когда встревали, мало что умея, при тяжелых родах. Муж-покойник — царствие ему небесное, бедному, — хоть и картежник был, и бабник, и гроша не подумал отложить про черный день, — содержал бакалейную лавку, дающую хороший доход. И вот в одну окаянную ночь тридцать лет назад, когда весь честной народ давно улегся спать, в дверь к Филумене постучали. Она ничуть не испугалась, ведь малыши благоразумно предпочитают приходить в этот грешный мир в часы покоя, а потому оделась и отворила дверь. На пороге стоял Люка Брази, о котором уже тогда шла недобрая молва. И еще люди знали, что он живет бобылем. Вот тут Филумене стало страшно. Она решила, что он пришел сквитаться с ее мужем, что муж, возможно, отказал Брази по глупости в каком-нибудь мелком одолжении.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу