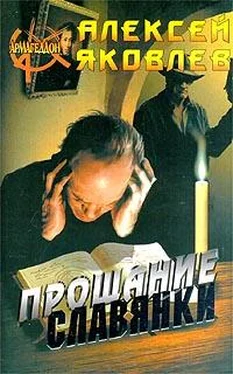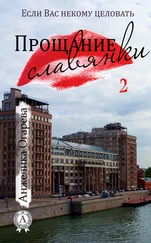— Костя, может, не надо?
— Что не надо? — спросил он, надевая пиджак в черно-белую мелкую клетку.
— К Покупателю не надо? — улыбнулся я жалко.
— Это единственный выход, Славик,— объяснил он мне. — Может быть, ты ни при чем. Не знаю… Но я-то тем более ни при чем! Почему из-за твоих проблем я должен пулю в башку получать? Согласись — это не по понятиям. Каждому свое.
Я проклинал себя за жалкую слабость, но не мог я ему не сказать:
— Костя, меня же убьют…
Он посмотрел в окно.
— Каждый умирает в одиночку, Славик… Пошли. Шапку свою захвати, зусманит…
Когда мы уже стояли в дверях, Константин сказал:
— Поздно мы с тобой познакомились, Славик. Тебе давно уже надо было поставить клизму из битого стекла. Чтобы не болтал лишнего по пьянке… Я понятно излагаю? Теперь тебе другие клизму поставят… Пошли!
Я прощался с жизнью… Пошло, конечно, сказано. Но как еще выразить мое состояние? Двое охранников запихали меня в белый лимузин, в котором недавно на моих глазах увезли уже отсюда два трупа… А Бог, как известно, любит троицу… Один труп, кстати, был в таком же, как у меня, сером китайском тренировочном костюме и в такой же черной шапке на простреленной башке… Ну, как я еще себя мог чувствовать, сидя между двумя жаркими мускулистыми мужиками? Я чувствовал себя трупом.
Передо мной возвышалась кожаная спина Константина. Они привезли ему кожаную куртку. Потому что действительно холодало… Зусманило, как выражался Константин…
Лето еще так и не началось. И мне было ужасно обидно, что я уже никогда не увижу его в настоящей красе. Будто дали почитать замечательную книгу и вырвали ее из-под носа на самом интересном месте.
Мы вылетели на Троицкий мост, и я снова увидел с Невы уже разведенный Дворцовый, праздничный торт Биржи, темно-желтое пасхальное яйцо Исаакия и крылатого ангела, приколотого крестом к золотому щарику, как мотылек булавкой…
И вспомнил глаза… Светло-серые, перламутровые глаза… И голос: «Что-то не так, Слава? Да?»
«Что-то не так!» — горько усмехнулся я. Знала бы она — как… Ну и что? Завтра, если она, конечно, спросит, Константин ей скажет, наверное: «Слава запил. Он полный алкаш. Я вам другого гида нашел. Академика. Лихачева». Она, наверное, тряхнет мальчишеской головкой и скажет свое неизменное: «Да?» И забудет. И никогда не узнает, что я ушел в запой, из которого не возвращаются. В запой с простреленной башкой…
Мы уже летели по Кировскому, подлетели к «Горьковской» и встали у светофора. Я не знал, почему в самые последние свои мгновения я думаю об этой иностранной девушке-мальчике, которую видел-то всего час, какой-то час из своей тридцатичетырехлетней нелегкой жизни? Ведь были у меня женщины. Разные. Были «романы». Как они это называли… И на один день, и на неделю, и на весь отпускной месяц… Была жена, с которой я прожил пять лет… Даже больше… Но их я почему-то не вспоминал… Передо мной стояли светло-серые, перламутровые глаза. Ее глаза…
Нет! Не ее…
Машина опять понеслась.
Я вспомнил вдруг свою первую любовь. Самую-самую первую. Было мне тогда лет… Три года мне тогда было! Бабушка меня возила по зимней набережной Мойки на санках гулять в темный Михайловский сад… Помню себя закутанным в шубу, помню на щеках меховые уши зимней шапки, помню тугой шарф на шее, завязанный узлом за спиной, и варежки на шлейках, продетых в рукава, помню… И снег. Крупными пушистыми хлопьями… И черные суконные боты бабушки из-под длинной каракулевой шубы, мелькающие перед моими глазами… И серую бельевую веревку, за которую она тащит санки со мной. Помню…
Уже вечер. Тихий зимний пушистый вечер… Сначала мы проезжаем ярко освещенный каток, залитый на теннисном корте, где орут, визжат и носятся на коньках большие мальчишки и девчонки… Помню их румяные, возбужденные лица. Помню, как ко мне наклонилась румяная смеющаяся девчонка и пожалела, что я не могу понять их взрослой радости: «Ну что, карапуз?» И тут же поняла, что что-то не так сказала, что зря пожалела меня, и удивилась вслед моим санкам: «Уй, какой важный!»
Она не знала, что я еду на свидание!
Фонарей в темном саду мало. Один у милицейской будки, что у колоннады Михайловского дворца. Колоннада кончается длинной заснеженной лестницей. И с этой раскатанной лестницы катаются на санках ребята. Моего возраста и постарше. Там уже ждет меня она. В белой кроличьей шубке и таком же пушистом капоре… Ее бабушка подруга моей бабушки. Они когда-то вместе работали… Они приходят в Михайловский поговорить. И не знают, что на самом-то деле они только лошади, привозящие нас на свидание. Они идут рядом по аллее, громко обсуждают каких-то умерших своих директоров, а мы едем рядом, санки к санкам. Оба закутанные, почти неподвижные. Только глядим друг на друга… Темные заснеженные аллеи и снег крупными хлопьями… И снежинки на ее длинных ресницах… И глаза… светло-серые, перламутровые…
Читать дальше