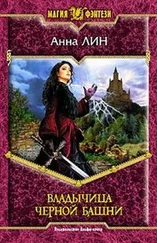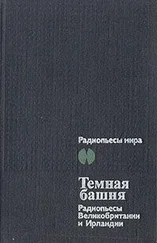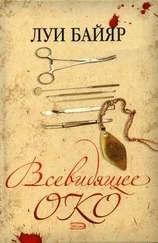Но ему это удается. Он возвращается в обычное время, в половине двенадцатого, и выглядит так же, как перед уходом. У нее возникает ощущение, что собственные чувства обманывают ее.
— Да ты дрожишь, — произносит он, беря ее руку в свою, теплую и крепкую. — Ты не простудилась?
Дрожь через несколько минут утихает… и возвращается через четыре года, когда ее сыну во время прогулки приспичило забежать на бульвар Тампль. Догнав его, она опять замирает перед черной, как сажа, громадой строения. Опять ее охватывает холодный ужас.
— Пошли, Эктор.
Она тащит его за руку по улице, пока они не сворачивают за угол, и не желает оглядываться.
Карета времени преодолевает еще восемнадцать лет. Мальчик вырос, его мать достигла определенного возраста, а страх никуда не делся. Это от него дрожит и колеблется свеча под керамическим абажуром, которая пятничным вечером стоит между ними на столе и манит к себе мотылька.
— Но ты ведь видела только, как он туда зашел, — говорю я. — Откуда ты узнала, чем он там занимался?
— Разве приходилось сомневаться? Все знали, что дофина содержат в башне. Все знали, что он очень болен. Кто-то должен был за ним ухаживать. Кто мог справиться с этим лучше твоего отца?
— Ты так и не призналась ему, что знаешь.
Она медленно качает головой.
— Мне кажется, это было бы предательством. Во всяком случае, казалось тогда. Теперь, конечно, другое дело… теперь я думаю — кто знает, если бы я ему сказала, может, все сложилось бы иначе.
Часы в прихожей бьют десять. Облако света вокруг нас приобретает оттенок коньяка. Наверху все спят: и Шарлотта, и Папаша Время, и студенты-юристы. Шарль тоже, как обычно, устроившись на левом боку, пребывает в стране снов.
— Двадцать второе мая, — говорю я.
— Да, — отвечает она, внезапно посмотрев мне в глаза. — Восемнадцать дней до смерти мальчика. Достань вино, Эктор. Оно там, в буфете.
Бутылка боннского, еще не выдохшегося. Когда я ставлю вино на стол, мне невольно вспоминается первая встреча с Видоком. Он сидел на том же стуле, что и мать, глушил вино и заедал сырой картошкой. Он был грязен и убог и все же не так убог, как эта комната.
— Вечером накануне смерти мальчика, — рассказывает мать, — твой отец пришел ко мне. Он говорил кратко, простыми словами. Заявил, что сегодня вечером ему предстоит важное дело. Очень важное, сказал он, суть которого он не имеет права разглашать. Единственное, о чем следует предупредить, как он выразился, это что «дело небезопасное». Весьма возможно, он не вернется, и если к утру его не будет, то я должна взять тебя и немедленно уехать к дяде в Гренобль. «Не задерживайся, даже чтобы собрать вещи, — велел он. — Уезжай немедленно». Он и денег мне дал на дорогу — мешок серебра! А потом поцеловал. И ушел. Мне кажется, он не хотел растягивать прощание. Чтобы не дать слабину. Скажи, могла ли я спать после такого? И словно специально, ты в тот вечер слег с температурой. Ты просто таял от жара, у тебя даже не было сил плакать. Я держала тебя на руках и… — Ее глаза расширяются при виде картин прошлого. — Я укачивала тебя, пока ты не заснул. И потом продолжала сидеть у твоей колыбели. Я не хотела оставлять тебя одного, так что легла на пол рядом. И, кажется, сама заснула, потому что пропустила момент, когда он вернулся. Он стоял в дверях. Было, наверное, часа три ночи. Я увидела его, я… не могла даже пошевелиться. Даже встать с пола. А потом он заговорил, произнес всего три слова. «Все в порядке», — сказал он. Посмотрел на тебя, как ты спишь в своей колыбели. Прикоснулся к твоему лбу. И пошел спать. Что до меня, то я так и не встала в ту ночь с пола. Пролежала там до самого утра.
Она проводит пальцем по ободку бокала.
— А дальше, — продолжает она, — было вот что: через два дня газеты пестрели сообщениями о смерти дофина. Я прочла ему новости за завтраком. Само собой, я наблюдала за его реакцией. Но на его лице не дрогнул ни один мускул. Он не произнес ни слова. И все же… не могу определить, в чем это проявилось, но он разом переменился. Перемена коснулась всего. Видишь ли, он много сделал для того, чтобы мальчик выжил. И когда тот погиб… как будто бы все разом утратило для него смысл. Это выразилось сначала в том, что он начал терять пациентов. Сперва самых богатых. Не прошло и года, как он уволился из больницы. И сообщил мне, что хочет быть полировщиком стекол.
Она удрученно качает головой, словно впервые услышала эту новость.
— Необычная карьера. В те дни я осознала также, какая карьера предстоит мне. Стать одной из этих несчастных, грустных женщин. Помню, в молодости я смотрела на них со стороны, обращала внимание. У них был такой вид, словно, когда они отвернулись, жизнь ускользнула от них и единственное, что им осталось, — она окидывает взглядом посуду на столе, — это полировать серебро.
Читать дальше