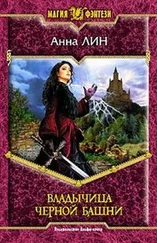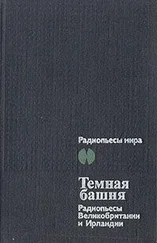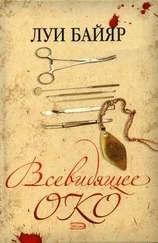Еще полчаса, и его начинает заносить к югу. На этот раз никаких петель и поворотов. Он двигается целенаправленно, словно внезапно осознал, куда ему надо. И в тот момент, когда перед нами опять показывается Сена, а слева проступает силуэт каменного моста, я начинаю понимать — и это понимание сопровождается вспышкой своеобразного веселья, — куда именно он собирается.
— Чтоб ему! — восклицает Видок.
В ранний период Реставрации королевский парк по-прежнему пользуется популярностью. Большинство старается попасть сюда летом: по воскресеньям в парке оживают и изливают ослепительные водные потоки двадцать четыре фонтана. Поблизости от любого из них можно заметить неизменного художника-акварелиста с прислоненным к каштану мольбертом, рядом играют музыканты, а люди, совершенно друг с другом незнакомые, вместе отплясывают в высокой влажной траве.
Однако в апрельский вторник замок закрыт, по траве с рассеянными там и здесь вьюнками гуляют немногие посетители — по большей части англичанки-миссионерки в шляпках с вуалями. Фонтаны не работают. Знаменитые узорные клумбы выглядят весьма невзрачно, представляя собой участки обработанной земли за низкими дощатыми заборчиками.
Птицы, однако, на месте, клюют что-то среди прошлогодней травы на газонах. И воздух тоже никуда не делся. Даже месье Тепак останавливается возле пруда с карпами, чтобы вдохнуть полной грудью.
Не в этот ли момент я вспоминаю, что Мария Антуанетта тоже любила здешний воздух?
Она вдохнула его, да-да, вдохнула полной грудью, и решила, что он как нельзя лучше подходит для королевских детей. И тогда король по ее распоряжению приобрел у своего кузена этот замок, который стал убежищем для членов королевской семьи. В нем они могли укрыться от парижан, день и ночь с недоброжелательностью следящих за ними.
Именно в Сен-Клу стремились они тогда, когда все разваливалось на глазах. 18 апреля 1791 года: королевская карета с грохотом выкатилась из Тюильри, и путь ее лежал туда же, куда и всегда, но на этот раз дорогу перекрыла толпа санкюлотов, настроенных столь непримиримо, что даже генерал Лафайет не смог их разогнать. Это длилось больше часа: они плевали в карету, обрушивали на тех, кто находился внутри, потоки ругательств и поношений — требовали голову австрийской сучки и ее рогатого мужа. И среди всего этого сидели король и королева Франции, в плену у своих собственных подданных, зная в глубине души, что им больше не увидеть Сен-Клу.
Но может быть, пока тянулся этот нескончаемый час, перед ними мелькнул и луч надежды? Надежды на то, что однажды — и кто знает? может, этот день не так уж и далек — воздух свободы вдохнет их сын.
Я снова и снова вглядываюсь в этого упитанного буржуа в его подбитых железом кожаных сапогах и трех жилетах: вот он спускается с Апельсиновой террасы, ступая так безошибочно прямо, словно за спиной у него разворачивается шелковый шлейф.
«Так вы затем сюда и прибыли? Чтобы закончить за них это путешествие?»
В этот момент мои размышления грубо прерывает голос Видока:
— Да прекратите же пялиться на него, Эктор!
Парк французского короля украшает кустарник, недавно доставленный из Индии. Он представляет собой переплетение ветвей, тонких, как волос, в пудре из миллионов крохотных цветочков. Его высадили неподалеку от Большого Булонского фонтана. Такое расположение повышает его статус, и если вам доведется забрести в эту часть сада, то вы почувствуете себя обязанным на него полюбоваться. Замедлив шаг, замерли англичанки-миссионерки. Тут же цыганка в вышитом синем платке, а рядом с ней, по порядку: монах в рваной рясе; пара матросов, явно не в себе после вчерашнего — чтобы не упасть, они держатся друг за друга; и гордость русской армии, гренадеры: их кивера наклонены под особым углом, ясно показывающим, что они еще полны того воинственного пыла, что был присущ им три года назад, во время оккупации Парижа.
Даже месье Тепак снисходит до любования ботаническим чудом. Наблюдая за ним через бинокль Видока, я вижу, как он берется руками за края жилета и слегка наклоняется вперед. Легкое дрожание век, учащенное дыхание.
Этому конкретному растению он уделяет ровно минуту. Затем берет дубовый посох и величественно, как и прежде, продолжает шествие к Большому Каскаду. Там уста горгулий все так же исторгают запомнившуюся мне с детства изумрудную воду.
Он не обмолвился ни словом ни с одним человеком, но своим уходом словно бы подал сигнал остальным. Толпа начинает рассеиваться. Миссионерки удаляются, русские решают посетить ближайший ресторан, а матросы отпускают, наконец, фалды друг друга и, шатаясь, пускаются в путь.
Читать дальше