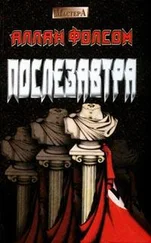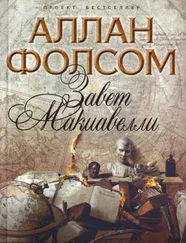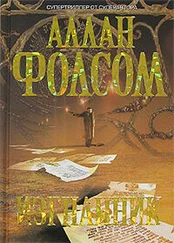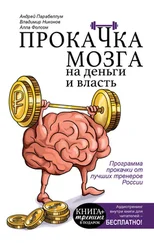Открыв ящик стола, он достал оттуда маленький, с ладонь, диктофон, поставил его на стол, затем открыл конверт и вложил кассету в магнитофон. Секунду-другую помедлил в нерешительности, а затем нарочито резким движением нажал кнопку «Пуск». Сначала из динамика доносилось лишь негромкое сухое шипение, а затем раздался голос, приглушенный, но совершенно четкий:
«Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Да поможет Господь, озаряющий все сердца, осознать твои грехи. Веруй в милосердие Господне».
«Аминь,
— отозвался другой голос и продолжил: —
Отпустите мне грехи, святой отец, ибо я грешен. Я уже давно не исповедовался, и грехи мои…»
Марчиано поспешно нажал на кнопку «Стоп» и застыл неподвижно, не в силах заставить себя слушать дальше.
Исповедь была записана втайне и от кающегося, и от священника. Кающимся был он сам, кардинал Марчиано. Исповедником — отец Дэниел.
Измученный страхом и отвращением, которыми до самых глубинных уголков наполнил его душу Палестрина, он обратился за поддержкой в единственное доступное ему место. Отец Дэниел был не только умным и полезным помощником, не только одним из ближайших друзей — он был священником, принесшим обет Господу, и потому все, что могло быть ему сказано в ходе таинства, оказывалось защищено великой тайной исповеди и не могло ни при каких обстоятельствах выйти за пределы исповедальни.
Не могло, но вышло.
Потому что Палестрина подслушал и записал исповедь. И не могло быть никаких сомнений в том, что Фарел напичкал электронными жучками все личные и служебные помещения, в которых мог появиться Марчиано или другие высшие иерархи церкви.
Одержимый все усиливающейся паранойей, госсекретарь Ватикана держал активную оборону по всем фронтам, постепенно превращаясь в того самого военного диктатора, каким он, по его собственным словам, сказанным Марчиано несколько лет тому назад, себя самого считал. Тогда он был пьян, но с величайшей серьезностью и неимоверной гордостью говорил, что с тех пор, когда стал что-то понимать, он твердо знает, что является не чем иным, как новым земным воплощением Александра Македонского, великого полководца древности, покорителя Персидской империи. С тех пор он начал строить свою жизнь соответствующим образом и благодаря своему уникальному предназначению смог стать тем, кем стал, и занять то место, какое занял. И не важно, верил ли в это кто-нибудь другой, поскольку сам он верил в свои слова безоговорочно. Ну а Марчиано видел, как Палестрина мало-помалу облекался в мантию полководца.
С какой молниеносной быстротой, с какой ужасающей жестокостью он начал действовать, как только услышал запись! Марчиано исповедался поздним вечером в четверг, а рано утром в пятницу отец Дэниел отправился в Ассизи. Несомненно, он был напуган ничуть не меньше, чем Марчиано, и искал какого-то иного способа восстановить душевный покой. У Марчиано и на долю секунды не возникло сомнений в том, кто мог решиться взорвать автобус и погубить столько ни в чем не повинных людей ради того, чтобы устранить одного священника. Это была та самая безжалостность, полностью отрицавшая всякую гуманность, являвшаяся основной чертой стратегического плана Палестрины насчет Китая. Та же самая хитроумная болезненная расчетливость параноика, заставлявшая его ни на йоту не верить не только окружавшим его людям, но даже и тайне исповеди, а значит, и основополагающим канонам церкви.
Марчиано должен был это предвидеть. Потому что к тому времени Палестрина уже успел совершенно открыто продемонстрировать ему свою ужасающую сущность. И увиденное запечатлелось в памяти Марчиано, словно выжженное каленой печатью.
* * *
Наутро после торжественных, прошедших при огромном стечении народа похорон кардинала-викария Рима госсекретарь вызвал всех, кто был связан с его планом насчет Китая — Марчиано, префекта конгрегации епископов Йозефа Матади и генерального директора Банка Ватикана Фабио Капицци, — на совещание, местом для которого выбрал свою личную небольшую виллу в Гроттаферате, неподалеку от Рима. Это место Палестрина частенько использовал для собраний в самом узком кругу, именно там он впервые поставил министров Ватикана в известность о своем «Китайском протоколе».
Сразу по прибытии их провели на небольшую полянку, окруженную ухоженными кустами, поодаль от главного здания, где их поджидал Палестрина. Он сидел за кованым столиком, потягивал кофе и одновременно что-то печатал на ноутбуке. С ним был Фарел — стоял за креслом, словно верный мажордом, исполняющий заодно и обязанности телохранителя. С ними был еще один человек — мужчина привлекательной, но неброской наружности, не достигший, по-видимому, и сорока лет. Худощавый, среднего роста, черноволосый, с проницательными ярко-синими глазами и одетый — Марчиано хорошо это запомнил — в двубортный синий пиджак при белой сорочке и темном галстуке и серые брюки.
Читать дальше