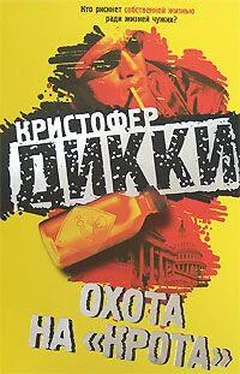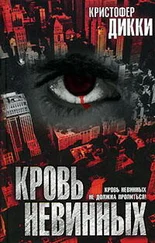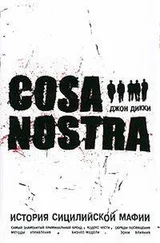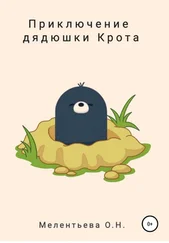Я собрал мусор в машине, поднял щиток, взял книги Бетси и пошел, прижимая их к груди, словно мы вместе возвращались из школы.
— Где вы были? — крикнул я, когда за мной захлопнулась дощатая дверь. Никто не ответил.
Страх пронзил меня, как электрический разряд. На кухне никого не было, в маленькой гостиной — тоже. Я прошел в холл и заглянул в комнату Мириам — пусто. Прислушался. Ни звука. Дверь в спальню открыта — на неубранной постели лежали сбитые в кучу простыни.
Не знаю, что я почувствовал в тот момент. Какая-то пустота. Как будто последние пять лет жизни бесследно исчезли. Словно ничего не было и ничего уже не будет. Ни прошлого, ни будущего, ни настоящего, и сам я стал невидимым и невесомым как призрак.
Простыни зашевелились.
— Ну? — прозвучал голос Бетси. — Тебе нечем заняться?
— Ох, малышка. — Я тряхнул головой, чтобы отогнать мысли, владевшие мной секунду назад, скинул рубашку и расстегнул джинсы. — Где Мириам?
— Я оставила ее у тети Ли. Решила, что нам нужно немного отдохнуть и взбодриться. — Она окинула меня взглядом с головы до ног. — Похоже, ты не готов приободрить меня. Заключи меня в объятия, круглые, как солнышко!
От нее пахло жизнью. Моя Бетси. Я прижал ее к себе покрепче, вдыхая ее аромат. Мы целовались, слегка касаясь друг друга губами, и возникшая страсть наполняла нас, проникая через губы и глаза. У нее были маленькие и круглые груди, и, когда я стал ласкать их языком при свете дня, наполнявшего нашу комнату, она вдруг остановила меня.
— Нет, малыш, не смотри на растяжки, — смутилась она.
Я не мог сдержать смех.
— Ты выглядишь просто идеально, — ответил я, стараясь ее успокоить.
Не было смысла говорить, как сильно я любил каждый дюйм ее тела и эти почти незаметные растяжки у нее на груди, появившиеся потому, что она кормила молоком нашу дочь. И эти чудесные розовые соски, становившиеся твердыми, когда я касался их пальцами и языком. Живот у нее был слегка округлым, мягким и теплым, как земля в летний день. Ее светло-каштановые волосы между ног блестели и источали животный запах любви, а лоно имело привкус соли и железа, как кровь, как сама жизнь.
— Смотри мне в лицо и выполняй свой долг, — сказала она.
И когда я вошел в нее, наполняя собой ее тело, медленно впускавшее мое, для меня не существовало иного мира, кроме того, в котором я сейчас находился.
Канзасское солнце лилось сквозь маленький световой люк в крыше и высвечивало вокруг нас на кровати квадрат, такой яркий, что нам пришлось закрыть глаза, пока мы лежали обнявшись. И в этот удивительный момент покоя я вдруг понял, что еще никогда в жизни не был так счастлив и в то же время так напуган.
— Давай поболтаем, — предложила Бетси.
— Я хочу слушать твое дыхание, — прошептал я. — Давай просто полежим.
Меня всегда удивляло, что женщины любят говорить о таких вещах, как любовь, семья, дом, в то время как мужчинам достаточно быть уверенными в их существовании. Такие вещи не возникают из разговоров. Они — мир внутри мира, который мы создаем, пока живем вместе, пока строим его общими усилиями. «И этот мир такой хрупкий», — думал я, лежа рядом с Бетси в нашей комнате, в нашем доме, в четырехугольнике света. Ты строишь и делишься, ты любишь и мечтаешь, ты борешься и плачешь… и строишь дальше. А потом приходят какие-то люди. Просто появляются и все рушат, рвут на части.
Гриффин. Мы говорили с ним не больше десяти минут, и за это время он раз десять привел меня в ужас. Он угрожал мне законом, угрожал моей семье, моему достоинству.
— Расслабься, малыш. — Бетси провела пальцами по моей щеке. — Что случилось? Ты какой-то напряженный.
— Все думаю о вчерашних событиях. Меня как будто насквозь продырявили.
— Все ощущают нечто подобное, милый. Все.
Я поцеловал ее.
— Да.
Я не мог рассказать ей, какая угроза нависла над нами. Я не мог сказать ей, как много я знаю о терроризме и насколько тесно был с этим связан сам.
Я — Курт Куртовик, тридцати четырех лет, родился в Канзасе, видел войну и смерть и не раз смотрел смерти в лицо. Я был солдатом американского правительства и Бога всемогущего. Долгое время думал, что на свете есть справедливость, и порой верил, что с помощью Господа смогу изменить Америку и весь мир.
Пройдя подготовку в армейской школе, готовившей десантников военно-диверсионных частей, я в совершенстве овладел техникой убийства, доведя его до искусства, и специализировался в области подрывного дела. После участия в боевых действиях в Панаме и в войне в Персидском заливе я принял ислам — забытую религию отца-иммигранта — и отправился в Боснию, на родину предков, надеясь там отыскать свои корни и обрести себя. Но вместо этого судьба подсунула мне лишь еще одну возможность — совершенствовать технику убийства. Но я больше не мог убивать, и меня захватила идея остановить убийства раз и навсегда. Стремясь к этому всей душой, я, однако, позволил убедить себя в том, что обрести спокойствие и восстановить мир можно, лишь заставив Соединенные Штаты испытать ту боль, от которой страдал весь остальной мир.
Читать дальше