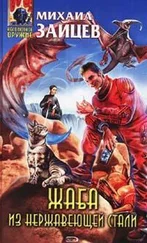Так и не решив, что делать и надо ли вообще предпринимать что-либо, запутавшись в доводах и контрдоводах, Иннокентий незаметно для себя выхлебал до дна чашку приторно-сладкого чая. А Марина тем временем закончила болтать по телефону. Положила трубку с антенной на кухонный стол, села на табурет, нога на ногу, взялась двумя пальчиками за фарфоровое колечко-ручку чашки с предназначенным Кеше чаем и, сделав большой глоток, облизнула влажные губы кончиком розового язычка.
— Остыл чаек, пока со Светкой трепалась... — Марина сделала еще глоток. — И какой-то несладкий чай. Странно — вроде бы три ложки сахара себе положила... Ну, как ты, Кеша? Может, все-таки съешь хотя бы помидор с хлебом?
— А может, тяпнешь, едреныть, все-таки рюмашку коньячка, друг?
— А пожалуй что и тяпну. — Кеша поставил на скатерть чашку, взял в руку рюмку. — Наливай!
— Ура! — Андрюха, торопясь, схватил коньячную бутыль за горлышко. Налил Кеше, себе, долил до краев ополовиненную рюмку Марины.
— Ой, Кешенька, котик, не надо бы тебе алкоголя, я так за тебя волнуюсь, зайчик, я так тебя... — Марина замолчала, застыла с полуоткрытым ртом. И вдруг резко выгнула спину, взмахнув руками, как будто ей за шиворот неожиданно плеснули кипятка. Красивое лицо исказила гримаса боли. Она попыталась было вздохнуть, но ей не удалось. У Марины побагровели щеки, набухли вены на напряженной, одеревеневшей шее. С видимым усилием она повернула голову, взглянула глазами навыкате в прикрытые стеклами очков глаза Иннокентия. Долю секунды она смотрела на него с недоумением, затем в ее взгляде вспыхнула искорка понимания, осознания того, что и почему с ней произошло, и перед тем, как хрусталики ее зрачков остекленели, в них двумя факелами полыхнули лютая, звериная злоба, дьявольская ненависть и страстное, последнее в ее жизни желание испепелить Кешу взглядом, подобно Медузе Горгоне из древнегреческих мифов.
— ...Она замолчала, спину выгнула, рот открыла, как рыба, выброшенная на берег, посмотрела на Кешу и обмякла. Я ее подхватил, не дал упасть на пол. Кричу Кеше: «Петрович, едреныть, звони в „Скорую“, че сидишь!» А он сидит как статуя, окаменел весь, бледный, как из гипса. Думаю — сейчас и Петрович бухнется, у него ж, это, сердце, синяк под лопаткой. Марину уложил на пол, звоню, вызываю «неотложку». Врачи, молодцы, через десять минут приехали. Я сам им двери открывал. Петровича заставил, пока врачей ждали, коньяка выпить — бесполезно. Выпил, а все равно весь каменный сидит. И, главное дело, молчит, едреныть, ничего не отвечает. Я спрашиваю его: «Где у вас в доме валидол? Ваще, где лекарства?» А он молчит. Слава богу, врачи быстро приехали, и это... это самое... в общем, Марину перенесли в спальню, Петровичу давление померили. Двести, едреныть, на сто семьдесят! Доктор Марину в спальне смотрел, а медсестра укол Петровичу сделала и меня с собой в прихожую увела. Вышел доктор из спальни и говорит: «Мы ее потеряли». Марину, в смысле. В смысле — умерла. Меня медсестра спрашивает, волновалась ли Марина накануне. Я, едреныть, как заору. Волновалась, ору, за Кешу. Она, кричу, так его любила, едреныть, что вам, ору, и не снилось. Объясняю им про Кешино больное сердце, про то, как и он ее тоже любил. Позавчера, объясняю, расписались, и вот оно как вышло... Врачи мне — вы сами-то, говорят, успокойтесь. А я плачу, как баба, ничего с собой поделать не могу, едреныть! Пошли на кухню, посмотреть, как там Петрович, живой или тоже того... это самое... помер с горя. Ну и сказать же ему как-то надо, едреныть, про это... про то, что Марина скончалась от сердечного приступа... Заходим на кухню, а он поплыл, в том смысле — помутнение рассудка у Петровича. Горшок с цветком на подоконнике двигает! Врач ласково так Кешу за локоток взял, отвел от окна, усадил Петровича за стол и коньяку ему в чашку из-под чая налил. А Петрович и говорит — это ее, говорит, Маринина чашка — и бух, трахнул чашкой об пол. Фарфор вдребезги, брызги по всей кухне. Врач тогда медсестре говорит — сделай, говорит, ему еще один успокоительный укол. А я чувствую, у меня коленки дрожат, едреныть. Не спьяну, нет. Мы, это самое, выпивали, конечно, пока с Мариной плохо не стало, но, конечно, в коленках дрожь у меня не от водки. Я вообще, как она сознание потеряла, протрезвел мгновенно... Медсестра Петровичу укол делает, а я ору — доктор, ору, ради бога, и мне вколите успокоительного.
Доктор говорит — вам, говорит, лучше выпить коньяка. Я хвать бутылку со стола и в два глотка ее прикончил. И хоть бы что, мужики!.. Я и сегодня, едреныть, прежде чем в крематорий поехали, стакан спирта накатил. Та же история! Ни в одном глазу. И сейчас, за столом, пью, едреныть, водяру, как воду. Не берет, зараза!.. Ну, все, мужики, пошли обратно. Неудобно, полчаса, едреныть, курим, а Петрович там один с бабами. Тушим хабарики, мужики, и пойдемте помянем Марину последний раз, да по домам надо расходиться, едреныть...
Читать дальше