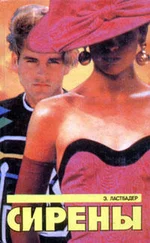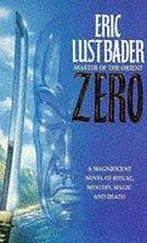Кэтлин! Он видел ее выступающие скулы, худое угловатое тело. В ней не было ни унции лишнего жира. Невероятно длинные тонкие ноги, лебединая шея, личико с острым подбородком и широким лбом, огромные синие глаза и шапочка сверкающих черных волос, стриженых коротко, по-мужски. Волосы ее походили на шкуру животного. Вот-вот, гибкая зверюга, подумал он и хохотнул. Да, такая она, его Кэтлин.
На ней были темно-синее поплиновое платье с высоким китайским воротом, оно очень выгодно подчеркивало ее длинную шею, на которой сверкал бриллиантовый кулон. На ногах — темно-синие туфли из крокодиловой кожи на высоких каблуках и с открытым носком. Колец она не носила, но левое запястье украшал тяжелый золотой браслет.
Он различал за ней очертания мебели, напоминавшей ему обстановку материнской спальни в старом доме в глубинке штата Виргиния. Край скакунов и лошадников.
Пот лил все сильнее. Он облизнул губы. Перед ним, за барьером из прозрачного зеркала, полуобернувшись спиной, стояла Кэтлин. Она не глядела в его сторону: его не было.
Он увидел, как руки ее поднялись и начали расстегивать пуговицы на платье. Он, не мигая, смотрел, как медленно-медленно ползут руки вниз, он видел ее профиль и видел, как приоткрылись губы, и, Готтшалк мог поклясться, услышал ее вздох. Одно плечо поднялось к подбородку, второе медленно опустилось, и поплиновое платье соскользнуло с этого опущенного плеча.
Готтшалку показалось, что сквозь какой-то туннель во времени он наблюдает за туалетом Афродиты. Он уже ясно видел изгиб ее обнаженного плеча, тени под острой лопаткой. Затем, каким-то неуловимым движением Кэтлин сбросила платье со второго плеча.
Она была обнажена по пояс, мышцы на спине трепетали. Руки спустились еще ниже, и она вдруг повернулась. Готтшалк застонал. Кэтлин расстегнула платье до самого низа и распахнула так, что стало видно все от пупка вниз, лишь пояс придерживал платье и прикрывал пупок, словно это была самая интимная часть ее тела.
Волосы на лобке были такие же черные и густые, они кольцами поднимались вверх к животу, лизали его, словно язычки черного пламени, и обрамляли, но не скрывали татуировку ниже пупка.
Какое-то время — долго-долго, как ему показалось, — она стояла неподвижно, положив руки на бедра, согнув в колене ногу, голову слегка наклонив набок. Готтшалк помнил, как стояла в такой позе мать — он возвращался с конной прогулки, пропахший потом и лошадьми, и видел ее в окно родительской спальни. Она стояла и, как понимал Готтшалк, о чем-то говорила с отцом; они одевались к приему в каком-нибудь из высокопоставленных вашингтонских домов.
Затем одним резким движением Кэтлин расставила ноги, и, пригнув колени и откинувшись назад, вытолкнула вперед то, что пряталось у нее между бедрами, словно предлагала это сокровище его дрожащим губам.
И в памяти его вспыхнули все те темные виргинские дни, когда чресла его наполняла невыносимая мука, когда он не мог спать из-за постоянно мельтешивших в его сознании образов женских ног в чулках и плоти над этими чулками. А по утрам голову его кольцом стискивала боль. И уже не Кэтлин видел он, а прекрасную виргинскую женщину — его мать.
Кэтлин извивалась перед ним в первобытном танце. В мире не существовало ничего, только чаши ее грудей, отвердевшие под ее собственными пальцами соски. Блестящий от пота живот, полураскрытые, смоченные слюной губы, розовый язычок, мелькавший между зубами. Синие глаза были полны страсти, ноздри раздувались. Не существовало ничего, кроме этого образа, пылавшего в его сознании, и его собственного отвердевшего пениса.
Он все быстрее и быстрее сводил и разводил руки, грудь горела, мышцы на внутренней стороне бедер начали болеть. Но это тоже было прекрасно. Он должен платить за удовольствие, которое наступит, за божественные содрогания, которые скоро поглотят его. Чем больнее он себе делает, тем выше плата, и тем сладостнее то, что наступит в конце.
Из динамиков в углах разносились ее стоны, становившиеся все громче, и бедра ее вращались все быстрее, груди вздрагивали, она скребла длинными ногтями живот.
О, он больше не выдержит! Но он должен, должен! Потому что он знал, что последует потом, и берег свое семя для этого. Но танец Кэтлин стал таким неудержимым, ее крики и стоны такими настойчивыми, что он почувствовал, как воля его тает под напором неудержимого желания.
С криком он оторвал руки от влажных резиновых рукояток тренажера, стянул пропотевшие нейлоновые штаны. Спортивные трусы его вздыбились.
Читать дальше