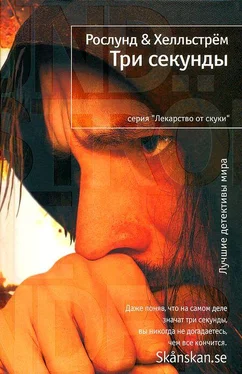Хоффманн сидел за кухонным столом, глядя, как свет пробивается сквозь ночь. Он ждал уже несколько часов и вот услышал тяжелые шаги на деревянной лестнице — не выспавшись, она всегда ступала так, всей подошвой на поверхность ступеньки. Он часто прислушивался к шагам людей. По шагам человека можно понять, что у него на душе, и проще определить его настроение, закрыв глаза и слушая, как он приближается.
— Привет.
Она не заметила его и вздрогнула, когда он заговорил.
— Привет.
Пит уже сварил кофе, налил молока на несколько сантиметров — именно такой кофе она любила пить по утрам. Поднес чашку красивой, взлохмаченной, сонной женщине в халате, и она приняла эту чашку. Усталые глаза — первую половину ночи она злилась, а вторую — полудремала в кроватке больного ребенка.
— Ты совсем не спал.
Она не злилась — голос не сердитый, она просто устала.
— Так получилось.
Он поставил на стол хлеб, масло, сыр.
— Температура?
— Небольшая. Пока держится. Пару дней посидят дома.
Наверху затопали бодрые ножки — свесились с кровати, встали на пол, побежали вниз по лестнице. Хуго, старший, просыпался первым. Пит пошел ему навстречу, подхватил на руки, поцеловал, ущипнул мягкие щечки.
— Ты колючий.
— Я еще не брился.
— Ты колючий больше, чем всегда.
Глубокие тарелки, ложки, стаканы. Все сели, место Расмуса пока пустовало, пускай спит, пока спится.
— Сегодня я посижу с ними.
Она ждала, что он скажет это. Но слова дались с трудом. Ведь они не были правдой.
— Весь день.
Накрытый стол. Совсем недавно на нем лежал нитроглицерин в соседстве с запальным шнуром и заряженным револьвером. Сейчас на столешнице теснились тарелки с овсяной кашей, йогурт и хлебцы. Громко хрустели хлопья, апельсиновый сок пролился на пол; они завтракали, как обычно, потом Хуго вдруг с громким стуком положил ложку.
— Почему вы злитесь друг на друга?
Пит с Софьей переглянулись.
— Мы и не думаем злиться. — Он повернулся к старшему сыну, понимая — этого пятилетнего мальчика вряд ли устроит такой простой ответ, и решил выдержать взгляд требовательных глаз.
— Почему вы врете? Я вижу. Вы злитесь.
Пит с Софьей снова переглянулись, потом она решилась ответить:
— Мы злились. А теперь уже — нет.
Хоффманн с благодарностью взглянул на сына, чувствуя, как расслабляются плечи. Он напряженно ждал этих слов, но сам спросить не решался.
— Хорошо. Никто не злится. Тогда я хочу еще бутерброд и еще хлопьев.
Пятилетние ручки насыпали еще хлопьев на те, что уже лежали в тарелке, сделали еще бутерброд с сыром и положили возле первого, даже не начатого. Папа с мамой решили ничего не говорить, и он сегодня утром тоже промолчит. Сейчас он умнее их обоих.
Пит сидел на крыльце. Софья только что ушла. А он опять не сказал ей того, что должен был сказать, — так получилось. Он поговорит с ней сегодня вечером. Расскажет все.
Едва спина жены исчезла на узкой тропинке между домами Самуэльссонов и Сунделлов, Пит влил в Хуго и Расмуса по ложке альведона. Потом еще пол-ложки. Через тридцать минут температура спала, и мальчики собрались в детский сад.
У Хоффманна остался двадцать один с половиной час.
Заказывал Хоффманн самую обычную для Швеции машину — серебристо-серую «вольво». Однако она оказалась не готова — ее не успели ни вымыть, ни проверить. Хоффманн торопился, поэтому выбрал красный лакированный «Фольксваген-Гольф», почти самую обычную машину для Швеции.
Тот, кто не хочет, чтобы его заметили и запомнили, должен как можно меньше отличаться от остальных.
Он припарковался у кладбища, за полкилометра от мощной бетонной ограды. Склон — отлогий, хорошо просматривается, трава на лугах зеленая, но еще не очень высокая. Его конечная цель. Аспсосское исправительное учреждение, одна из трех шведских тюрем высшего уровня безопасности. Его должны схватить, посадить в камеру предварительного заключения, судить, а потом упрятать под замок сюда — через десять-двенадцать, самое большее — четырнадцать дней.
Пит вылез из машины, прищурился от солнца и ветра.
Начинался чудесный день, но, поворачиваясь к стенам тюрьмы, Хоффманн не чувствовал ничего, кроме ненависти.
Двенадцать сраных месяцев за другими, не этими бетонными стенами, с единственным оставшимся у него чувством.
Он долго считал такие переживания естественным для юных бунтом против всего, что загоняет в рамки, не пускает на свободу. Оказалось — нет. Пит больше не был юным, но, глядя на эти стены, испытывал всё те же чувства. Ненависть к повседневной обязаловке, насилию, изоляции от мира, необходимости встраиваться в иерархию, ненависть к квадратным деревяшкам в мастерской, подозрительности, зарешеченным фургонам, анализу мочи, обыскам. Ненависть к вертухаям, легавым, униформе, правилам, к любому напоминанию общества о себе, дьявольская ненависть, которую он делил с другими. Единственное, что объединяло заключенных, — это ненависть, наркотики и одиночество, ненависть заставляла их заговаривать друг с другом, иногда даже стремиться к чему-то. Лучше стремиться к ненависти, чем не стремиться ни к чему вообще.
Читать дальше