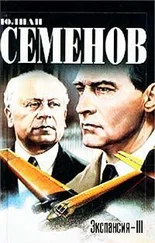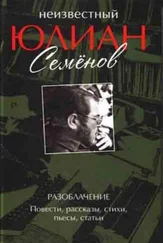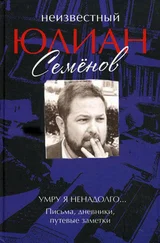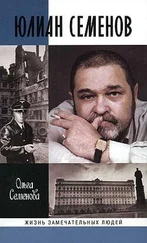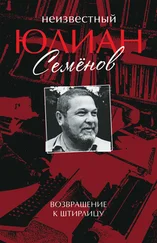– Глашенька, – сказал он ей, когда выключили свет в палатах, – девочка, ты меня только пойми, сердцем пойми... Вот у меня уж два провала в памяти было, а отчего? Оттого, что ярость во мне, душит меня, Глаш... Милая девочка, дай мне одеться, я ж здоров, дай мне формуляр...
– Какой формуляр?
– Ну бумажку на выписку...
Глаша тихо засмеялась:
– А то еще какой такой формуляр, слово-то не наше... Бумажку я дам, а кто ж тебе, Милинко, аттестат выпишет?
– Мне б только до фронта, там ребята накормят...
– Абрам Федорович говорит, что рано еще, слабый ты, он говорит, после тифа горячка может быть, а ведь не дома ты, в Германии. А ну – свалишься на дороге? Снова тебя к нам везти? Возвратный тиф есть, он прилипчивый, Милинко...
Кротов тренировал себя день и ночь: «Милинко, Милинко, Гриша, Милинко, Милинко, Гриша...» Спасибо, тиф выручил, сначала-то в горячке он на Милинко не откликался, а потом вспомнил уроки спецгоспиталя в Шварцвальде, где его от дефекта лечили, чтобы приметы не было, заикания: «Спокойно, герр Кротов, все хорошо, слова надо петь, зачем торопиться их произносить? Слово так прекрасно, им надо любоваться прежде, чем произнести». Сначала-то пел, а как не получалось петь, так на кресло сажали, велели говорить, и если начинал челюстью трясти, ток включали, рассчитали, на каких буквах заикается, тогда и включали, все тело сводит, криком кричи, но говори так, как надо, добились, вот ведь говорю, не заикаюсь... И к Милинко привыкну, к Грише, только держать себя надо в кулаке, если в бреду не открылся... А вдруг открылся?! Вдруг они смотрят за мною, и Глаша эта не Глаша никакая, а подсадная утка. Нужна баба, какая ни на есть, ночь – мое время, а мне одна ночь и нужна... Только с Глашей долго надо, – красивая, а тут одна маленькая, очкастая, глаз не подымает, застоялась, а кто на нее взор положит, на уродинку в очках?»
– Глаш, а как эту очкастенькую зовут, – спросил он, – которая днем дежурит?
– Розка-то, татарочка? Чего ты ее так – «очкастая»? Она девка хорошая...
– Вы тут все красотки, а на нее никто и не смотрит. Одинокая она? Друга нет?
– Она хирургом хочет стать, все возле Абрама ходит...
«Она возле вашего старого Абрама ходит, потому что рядом – пусто, – подумал Кротов. – Бросит она кривоноса, как только мужиком запахнет. Уродинка, если ее пригреть, из огня каштан потащит».
За завтраком он подозвал Розу, попросил:
– Сестреночка, маленькая, у меня в глазах рябит, ты мне книжку почитай, а? – и руку ей положил на колено, горячую, большую руку...
Когда его выпустили из палаты изолятора, он, по-прежнему шатаясь, – всячески отыгрывал версию контузии, – завел дружбу чуть не со всеми ранеными; слушал; каждое слово з а к л а д ы в а л в память, говорил мало; безрукому цигарку скрутит, лежачему с ложечки морсу даст, у Розы ведро выхватит из руки, та вся зардеет, идет следом, как собачонка...
...Аттестат он выкрал, историю болезни – там, где было записано, когда поступил с контузией и когда начался тиф, – вырвал, спустил в сортир, вещи из каптерки тайком взяла Роза, ушел он на рассвете, сел на попутку, поехал к матери Милинко, в Осташков.
На аэродроме было столпотворение: отпускной сезон.
– Выпьем? – предложил Костенко.
– Пошли, – вздохнул Жуков. – А то как дерьмом вымазанные расстаемся – никакого сдвига, обидно...
– Сдвинем, – ответил Костенко. – И обижаться не на кого – профессионал работал. Когда переберетесь в Москву?
– Вы что, серьезно? – спросил Жуков, сев за столик.
– Вполне.
– Да не поеду я. Старый стал. А старость прежде всего бьет по легкости в передвижениях. Не сердитесь. Да и с вами работать, говоря честно, не сахар.
Костенко выпил стопку, задышал сухим сыром, поинтересовался:
– Почему?
– Слишком сильный вы человек, под себя гребете. Вам бы силу скрывать, а вы себя напоказ. И так дурень дурнем, а с вами и вообще себя недоделком каким чувствуешь.
– Играть надо? Свою роль вести? Добрячка-молчуна?
Жуков ответил убежденно:
– Играть надо всегда, особенно если власть в руках. Слушать, как на вас с м о т р я т, – при начальстве не очень-то разговорчивы, – и в зависимости от этого играть...
– Попробую, – согласился Костенко. – А вообще вы меня верно приложили. С возрастом человек наиболее подвержен желанию навязать свой опыт окружающим. А опыт – снова вы правы – надобно окружающим легко подбрасывать, а не клеить ко лбу ладонью. Спасибо. Только поздно, видимо, переделывать себя. Страшно сказать, Жуков, мне все время кажется, что я только-только начал службу, только-только пришел в кабинет к своему первому шефу Садчикову. А Садчикова убили. – И комиссар, который нас костил, умер. И Тыльнер, из ветеранов, на Ваганькове. И Парфентьев помер. И Дерковский в отставке. А мне – сорок восемь, но уже могу на пенсию, двадцать пять календарных. Страшно, да?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу