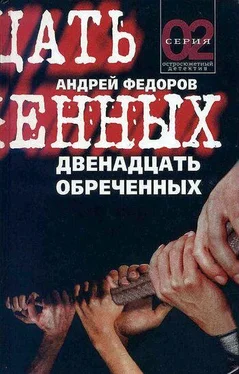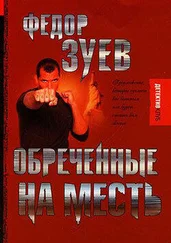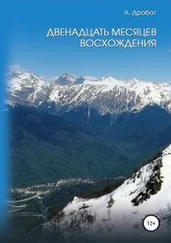У меня было тридцать тысяч, пистолет, револьвер и «мобил». Еще часы.
Я набрал номер Яблоковой. Не брала трубку долго — просыпалась.
— Какой? А, я тебя прекрасно помню, коллега! Что случилось?
Голос у нее был прежний, не растерянный. Скорее, усталый.
— Кто мне может угрожать? Алексей? Нет, это мой бывший муж. Ты уверен, что так все серьезно? Хорошо. Приезжай. Заранее извини за беспорядок.
Я остановил машину и честно сказал, что мне надо позарез на Долгоруковскую и у меня только тридцать. Еще часы.
Шеф мрачно усмехнулся. Ему было по пути.
Я молчал. Где-то за спиной бравые ребята сейчас небось приступили к обследованию дырки в диванной подушке и слушают истерические всхлипы Чацкой. Где-то через три квартала отсюда волокут в труповозку Андрея Снежневских (профессора), с которым я так и не успел встретиться. Кто ж цел-то из двенадцати обреченных? Я и Таня? Да неведомый никому Сашка из Ростова Великого. Генка еще жив. Я заметил, что почему-то не числю в списке живых Чацкую, хотя она-то как раз всех переживет. Такие всех переживут. Среди зеркал и замши…
— Ты чего молчишь и пыхтишь? Замочил кого, что ли?
— Да нет, шеф. Все наоборот.
— Тебя замочили? Ну, видать, проигрался сегодня вдребезги. На сухую причем. Не пахнет. А тебя не интересует, чего я во втором часу ночи не боюсь подсаживать?
— И чего ты не боишься?
— А у меня вот! — Он показал газовый «Вальтер».
— Правильно, — решил я, — время такое. Каждый день взрывают, стреляют.
— Сегодня, сообщали, на Плющихе взорвали квартиру, мент погиб. И вроде на Кутузовском женщине одной посылку передали, а посылка рванула. Слышал?
— Нет. Слышал, что бизнесмена одного застрелили. Помню, что Андрей и на «ских»…
— Приехали? Где тебя?
— А прямо на углу Садовой. Спасибо. На, что набрал. Часы?
— Да брось! Счастливый, что ли?
— Я-то? Я счастливый.
Я счастливый. Оказался в пятерке еще живых. В четверке.
Таня открыла. Посторонилась. Устало улыбаясь, смущенно щурясь.
— Меня еще можно узнать? А ты мало изменился.
Она изменилась. Отекли глаза, опустились углы рта… а ведь она как-то успела привести себя в порядок. Пока я ехал. И в однокомнатной — беспорядок. Старая мебель, тусклый пол, пыль на старом черном телефонном аппарате.
— Ты одна?
— Да. Представь, что у меня есть дочь, которая вышла замуж. Живет в Испании. Я скоро буду бабушкой. А так — одна.
Таня училась в медицинском. Через две улицы от нашего медицинского.
— Ты кто? Терапевт?
— Самый худший. Участковый. Я в ординатуре собиралась диссертацию писать, начала даже, потом в декрет. Ну и пошло. Как у всех.
Мы уже сидели, уже звенел чайник на плите. Она могла бы говорить долго. Но я не мог. И перебил:
— Тебе в последнее время не приносили посылок? Нет. А рисунок коровы или телки тебе ни о чем не говорит?
— Андрей, ты же психиатр. Вот и дозрел.
Самое трудное, как я уже крепко запомнил,
это убедить всех наших дам в серьезности угрозы.
— За последние дни тот, о ком я тебе совершенно серьезно толкую, убил Худур, Бориса, Полубелову, Андрея Снежневских. И, возможно, раньше еще убил ту Иру Пархоменко и Гиви-грузина.
Кажется, она мне поверила. Стала слушать. Я пил чай, тяжелая ложка дрожала у меня в пальцах, либо стреляют из «ТТ». Из «ТТ» убиты соседка Бориса, он сам и Снежневских. Меня пытались взорвать, пытались — Даню, убили посылкой Полубелову. И параллельно движется стрелок.
Все-таки мне очень хотелось пересесть. Как-нибудь выйти из «зоны поражения» от черного окна с далекими редкими огнями.
— Давай пересядем.
Таня оглянулась:
— Даже так? С той стороны? Может, свет погасить?
Она грустно улыбнулась, наверное, представив нас вдвоем в темноте, шепчущихся на единственном диване. Наверное она об этом подумала, потому что спросила:
— Где же ты собираешься сегодня спать? Ты, я понимаю, мечешься с утра, сейчас третий час ночи.
Мне показалось, что на лестничной площадке стукнуло. Кажется, Таня тоже услышала этот глухой звук — словно чей-то каблук ненароком сорвался со ступеньки.
— Обороняться нечем, — вяло улыбнулась она. И в тоне и в улыбке была та самая безнадежность, которую я уловил еще в телефонной трубке, — или усталость.
— Ладно, сюда садись. Отсюда тебя из окна не видно. А я — сюда. Но если дверь вышибут, то, кроме молотка, нет ничего.
— Чего тебя дочь в Испанию не берет?
— Да они там пока не устроились толком. Муж у нее коммивояжер. Он так себе зарабатывает. Больше, конечно, чем ты и я вместе, но там квартиры дорогие. Они снимают. Потом, у них маленький будет. У меня они не просят, но и помочь не могут. Надежда всегда есть. Что-то ты мне еще сказал, — попыталась вспомнить она погодя, когда мы уже поменяли места, ушли из «зоны поражения», и я видел теперь через прихожую дверь на лестничную площадку целиком: зловещую дверь, обитую когда-то белым, а теперь рыжим от грязи дерматином.
Читать дальше