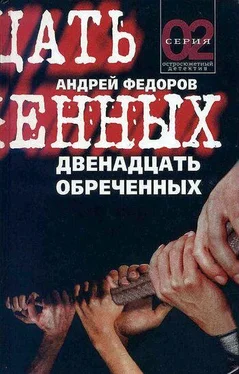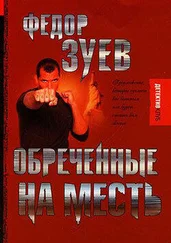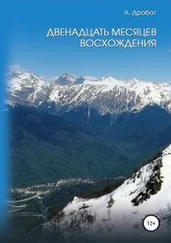Андрей Федоров
Двенадцать обреченных
Галя позвонила рано утром и сказала, что ее муж, а мой давнишний (но почти забытый) приятель Генка умирает. А до этого звонка я уже года три-четыре почти не общался с ним. Были, не каждый раз, дежурные звонки под Новый год, да что-то он у меня как-то просил, а я не люблю, когда вспоминают «по нужде»… даже не могу сейчас вспомнить, каким он был в миг последней встречи.
Умирает? Главное, тон у Галки такой, будто я должен знать, что он умирает, и приехать должен немедленно. А концовка и вовсе странная. Генка, мол, не просто умирает, он обязан открыть мне перед смертью какую-то страшную (конечно, «не для телефона») тайну. Я даже не спросил, куда должен приехать. Вероятно, имелся в виду старый адрес. Я должен подняться на десятый этаж того «американского» дома, в котором в нижних этажах разместился Театр эстрады.
Около восьми утра, объяснив все жене и дочери и все, что полагается, пообещав, я выехал к постели умирающего. Не на такси. А куда спешить? Мне и вовсе не хотелось спешить. Естественно, по дороге я стал вспоминать древние времена, школьные годы… Конечно, очень серьезным и мудреным был тогда Генка. Любимым словом его было слово «глупо»: срывать уроки «глупо», воровать яблоки «глупо», даже жарить на костре краденую утку «глупо». Но куда же девать убитую утку? На свой велосипед, помню, этот вечный отличник понавешал все возможные дополнения: фару, динамку, звонок, свисток, зеркало, насос… В темноте колеса изображали цирковые огненные обручи… Но Генка почти не ездил в темноте — это же «глупо». Потом он окончил какой-то секретный факультет, потом мы как-то ездили вместе на Кавказ… Или до этого? Да, потом он стал профессором в тридцать два года в том же институте, а уж потом (уже по слухам) сухой, непримиримый, чистоплюй математик вдруг превратился в… священника. Ушел с кафедры и последние три-четыре года профессор Генка служил попом…
Я поднялся из метро и пошел по Боровицкой, потом по Большому Каменному. Кончалось лето, в реке дрожал полурастворенный город, дрожал Генкин престижный домина… Эти семьсот-восемьсот метров я желал пройти в соответствующей моменту глубокой задумчивости и скорби.
К этим чувствам явно примешивалось раздражение, между прочим. Какие такие страшные тайны мог мне поведать умирающий поп? Что нас с ним связывало? Исповедоваться ему следовало у брата попа, а не у психиатра, тем более у психиатра с боевым, чуть ли не уголовным прошлым. Вообще, безапелляционность вызова к умирающему меня раздражала.
Да, конечно, кажется, когда мы встречались в последний раз, Генка выглядел старше, худоба ему не шла… но ничего необычного я в нем не обнаружил. Психиатру люди, внезапно меняющие мировоззрение, подозрительны, конечно. Не могу припомнить, чтобы Генка в любых обстоятельствах в прежние годы проявлял хоть какие-то особые чувства к Богу. И его религиозность, значит, была невероятно глубоко скрыта под внешним кондовым атеизмом…
Пора сворачивать во двор за гастрономом. Тут у не был лет десять… и этот срок, в свои сорок, уже спокойно воспринимаешь, и будто бы все тот же кот с драным ухом, с царапиной на носу сидит у лестницы и смотрит равнодушно, а ведь это минимум десятый потомок прежнего кота в цепочке проскользнувших поколений, хоть бы и стал ты прежним серо-ватным котом, образовавшись заново из смешения черных и серых цветов, так и не подцепив доминантной рыжины…
Лифт работает. Десятый этаж? С одиннадцатого этажа этого самого дома несколько лет назад выбросилась дама, но не убилась, а рассмеялась, попав в гигантский сугроб. Потом она лежала у меня в отделении и, может быть, живет в этом доме и сейчас…
Галя открыла мне, пропустила молча в прихожую, где тут же ударил в нос запах больницы и… тлена. Конечно, через пару минут привыкну.
Похудела? Нет, осунулась. И примирилась. Ей тридцать пять? Тридцать три? Дома ли дочь?
— Наташа в кино. Проходи в спальню.
— Когда же он? Что?
— Рак легких. Интересно, что ведь он никогда не курил. Ты же его знаешь с детства. Очень правильный весь, читал журнал «Здоровье». Почти не пил. Очень редко. Рак легких.
— Э! Галк! Я давно знаю, что москвичей ест рак. А деревенских, тех бьют белые горячки да инфаркты. А москвичей — рак. Куришь не куришь…
Генка стал почти не похож. Прежде всего, он вдвое усох и постарел лет на двадцать. Он словно прошел за эти несколько лет всю шкалу старения от тридцати до шестидесяти. И пожелтел. Метастазы в печень? Но глаза смотрят живо. Даже улыбается.
Читать дальше