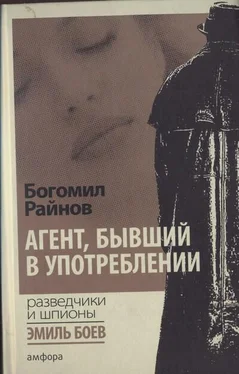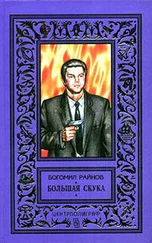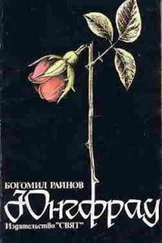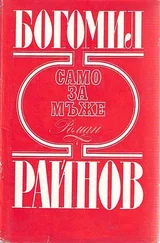— Вот видите, как вы быстро разобрались в серьезном историческом вопросе, — вступает в разговор Борислав. — Люди сотни лет ломают голову над философией истории, а у вас — между двумя чашками кофе, раз-два и готово.
— Не совсем, — возражает Однако. — Последнее слово мы оставляем за тобой. Держу пари, что речь будет похоронной.
— Последнее слово, если ты не знаешь, всегда остается за Временем. И тон его ни похоронный, ни свадебный. А смысл его в том, что люди будут падать, возвышаться, проклинать и истреблять друг друга, пока в один прекрасный день всех вместе их не выпрут в космос — быстренько и с билетом в один конец.
— Так я и знал, — кивает Однако. — С некоторых пор это стало твоей навязчивой идеей: по всем спорным вопросам ты прогнозируешь всеобщую гибель. Оглянись вокруг, посмотри, какая хорошая стоит погода, как красиво цветут яблони и вообще сады.
— Вокруг нет никаких яблонь, — обрывает его Борислав. — И садов нет. Если, конечно, ты не причисляешь к садовым деревьями каштаны.
После чего разгорается спор о том, относятся ли каштаны к плодовым деревьям или нет.
Маразм крепчает.
Мои опасения относительно того, что полковник теперь замучает меня вызовами и расспросами, не оправдываются. От Манасиева никаких вестей. Я, должно быть, лишился его доверия, а он нашел себе нового информатора. Нет смысла переживать. Лучше заканчивать записки. Однако подозреваю, что работой над записками я пользуюсь как возможностью отсрочить принятие окончательного решения.
Спрашивается, почему тяну, почему не уезжаю. В Вене, должно быть, меня все еще ждет Марта, а здесь меня ждет тюрьма или голодная смерть. Первое все-таки предпочтительнее. В тюрьме хотя бы кормят. Не могу же я всю жизнь висеть мельничным жерновом на шее Борислава!..
Неподдельно скучаю по Марте. И даже по бедняге Черчу. Но не могу отделаться от мысли, что есть нечто позорное в том, чтобы бежать из своей собственной страны в поисках теплого местечка на чужбине — подобно всем этим бывшим кагэбэшникам и прочим предателям, подавшимся на Запад лизать американские задницы за пресловутые тридцать сребреников, а то и за меньшую подачку.
Остаться или уехать — я и дальше буду как бы думать об этом. А милой Марте чиркну письмо. Я ведь ей обещал. Когда-то была очень удобная отговорка при расставании: «Я тебе напишу…».
Мое время практически истекло.
Ощущение это — оттого, что мне никто не звонит. Не из-за воцарившейся вокруг меня тишины, а из-за ее холодного дыхания, которое я ощущаю на себе.
Да, я имею в виду ее . Ту самую. Невидимую, но осязаемую. По ее едва уловимому холодному дыханию. Ощутив его в первый раз, я подумал, что это сквозняк. Но взяться ему было неоткуда. И дверь, и окно комнаты были закрыты. Однако я абсолютно точно ощутил это дыхание. С тех пор я все чаще ощущаю его, но уже не задаюсь вопросом, откуда этот холодок. Знаю — это она. Тихая и деликатная. Ходит вокруг да около. Не пойму только, чего она медлит.
Она тиха и деликатна. Когда-то я представлял ее себе огромной волной, зловещей сине-зеленой волной, которая обрушивается на человека, подхватывает его и уносит в первозданный мрак. Но нет, она другая… Не пойму только, чего она все кружит вокруг, вместо того чтобы положить мне на плечо свою руку и сказать: «Ну, идем».
Мне хотелось завершить эту историю благополучным финалом — не обязательно счастливым (где мне его взять!), а хотя бы каким-нибудь символическим лучом надежды. Как говорится, вокруг так темно, что хочется думать о свете. Нет, я имею в виду не светлое будущее, которым нас несмотря ни на что продолжают прельщать политики, а какое-нибудь, пусть самое незначительное, событие, доказывающее, что Возмездие существует и что, согласно изреченному, каждому воздастся по делам его. Хотелось, но не получилось. Я надеялся, что нахожусь в шаге от благополучного исхода… Но не вышло. Произошло то, что с неизбежностью происходит всякий раз, когда остается сделать последний шаг — оступаешься, так и не успев его сделать.
Сколько себя помню, я всегда был один, но чувство одиночества испытывал редко. Это оттого, наверное, что у меня не было времени предаваться чувствам. Только оказавшись под откосом, я стал временами осознавать свое одиночество. «Тоже мне открытие! — говорю себе. — Спохватился! А кто в этом мире не одинок?» Человек рождается и умирает в одиночестве. Правда, между рождением и смертью есть порядочный отрезок времени, который люди заполняют каким-то общением друг с другом и всевозможными кознями в отношении друг друга. Я этим тоже занимался. И теперь, когда единственное, что осталось — умереть, нечего удивляться, что вокруг пустота. И если в этой пустоте все-таки кто-то ходит рядом, то это наверняка убийца.
Читать дальше