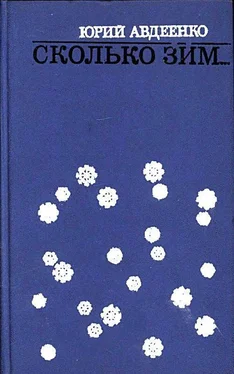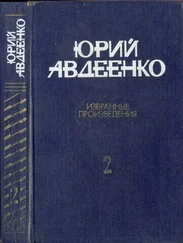Гестаповцы приближались.
Нервически дернув локтем, рябой сунул пистолет светловолосой девушке. Она взяла его, но…
Что было потом?
Вскрик: «Ой!» Всплеск руками. И звук упавшего пистолета, будто удар по барабану.
- Наlt! Наlt!
Под ноги эсэсовцам уже летит граната. Зал вертится волчком. Зал прыгает влево, вправо. Люди падают на пол между рядами. Но взрыва нет. Гранаты оказались дымовыми шашками. И едкий желто-белый дым расползается по кинотеатру.
Затем кузов автомобиля. Чьи-то спины и локти. Пахнущий духами затылок светлой девушки. И ствол автомата, как шлагбаум.
Коридор гестапо. Удручающе обыденный, как во всяком учреждении средней руки.
Удар между глаз. И все исчезло. Даже не сон, а так… пустота.
Боль - первый признак, что ты еще жив. Черная пасть ведра, загораживающая белый свет. Лужа. Можно сказать, плаваешь в луже. Только это еще не кровь. Это вода. Тебя привели в чувство.
Снова допрос…
С Агнесой он танцевал вальс. Третья или четвертая пластинка крутилась на радиоле, с тех пор как окончился фильм, но Грибанов все это время стоял возле стены, и много других мужчин стояло, а девушки танцевали друг с другом, подчеркивая, что им не скучно. Потом Агнеса взяла его за руку:
- Потанцуем?
Грибанов посмотрел на Санина. Тот одобрительно кивнул:
- Да, да…
- Он не умеет танцевать вальс, - сказала Агнеса.
- Не научился* - пояснил Санин.
Она танцевала ласково. И ее щеки были так близко, что разглядеть уже было ничего невозможно. Тогда он смотрел чуть вправо и вниз и видел крупные клетки паркета и узкий носок ее сапожка.
- Как вы сюда попали? - спросил он.
- Это скучно. По направлению… Скажите лучше, вы женаты?
- Я похож на семейного человека? - он уклонился от ответа.
- У вас интересная жизнь, - сказала она.
- Да.
И никаких уточнений. А что они дадут? Ночь ли, день. Зима, лето. Командировки, съемки… Продрогший и промокший по десять часов бегаешь по стройке ли, по палубе, чтобы сделать снимок, черно-белый, цветной динамичный снимок, который пойдет на обложку. А может, и на выставку… И главный редактор, обозревая разложенные на большом столе крупные снимки, улыбнется и скажет: «Молодец, Грибанов!» Но бывает и так, что глаза у главного потускнеют, лицо станет чужим, а голос металлическим: «Схалтурил, дружок».
- Зачем вы сюда приехали? - Агнеса отодвинулась.
- За девушкой.
Агнеса не поверила. Она не возразила, не улыбнулась, не покачала головой. Но он понял, что не поверила.
- Как ни дик мой ответ, но это правда.
- И сколько лет этой девушке?
- Семнадцать или восемнадцать.
- Она красивая?
- Непременное условие. Иначе мне несдобровать. Она должна быть такой же прекрасной, как вы или Беата Тышкевич. И ко всему этому незамужней.
- Не знаю, как Беату, но меня последнее условие не пугает.
- Вы живете одна?
- С мамой.
- Вам пришлось привезти сюда маму. Похоже, вы решили обосноваться здесь надолго.
- Она очень больна. Я не могла ее оставить в Эстонии. Да и врачи говорили, что перемена места жительства может пойти ей на пользу.
- Ваш отец жив?
- В сорок седьмом году он был убит националистами. Я не помню его. Они бросили гранату прямо в комнату. Отец стоял возле моей зыбки. Получилось, что он прикрыл меня.
- Это тоже сказалось на здоровье вашей матери…
- Конечно…
В автобусе без окон было их десять узников. Он не знал, откуда взялись еще четверо. Они уже стонали, когда привели Грибанова и еще пятерых. Хмурые эсэсовцы с автоматами на коленях сидели возле дверей, будто идолы. Никто не понимал твердо, куда их везут и с какой целью, но, видимо, многие полагали, что это последняя дорога, последний путь, последняя неизвестность, быть может, и не самая страшная из тех, что выпадали у некоторых на веку, но последняя…
Еще во дворе гестапо, темном, покинутом луной и фонарями, Грибанов заметил: светлую девушку толкнули в автобус одной из первых. Он догадывался, что ее пальто теперь вовсе не такое белоснежное, как тогда, в кинотеатре, но все равно оно было вызывающе светлым, как луч, как солнечный зайчик.
…Остановились. Свет в машине погас. Там, за стенкой, говорили по-немецки. Кто-то постучал в дверцу. Эсэсовец отодвинул задвижку. Хватка у фонаря акулья. По очереди глотает каждого, вытаскивая из темноты, словно из сети. Свежесть прокрадывается в машину. Обыкновенная ночная свежесть. И сердце стучит увереннее, будто часы, у которых подтянули гирьку.
Эсэсовцы вылезли из автобуса. Опять тихий разговор по-немецки. Потом кто-то громко вздохнул, будто потянулся спросонья. Глухой стук падающего тела.
Читать дальше