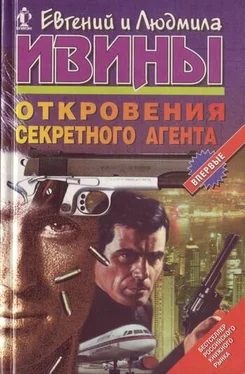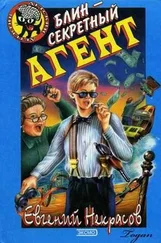— Это ему рано, — прервал коллегу Глеб Константинович, и тот замер на полуслове, хотя и сказанного было достаточно, чтобы меня ошарашить. — Кстати, откуда у вас американское произношение? Вы, случайно, не общались с американцами?
— Я много слушал радио, и у меня хорошо развита техника подражания. Мне нравится такой свободный, вальяжный стиль произношения, присущий настоящим мужчинам.
— Да, да, мне говорила Елена Николаевна. Она очень довольна вашими знаниями языка, но никак не может переделать ваш английский стиль. Очень хорошо, что у вас стабильное произношение.
— Я даже не пытаюсь его ломать. — Мне очень хотелось понравиться этим чекистам. Я боялся, что они разочаруются во мне, и тогда не быть мне разведчиком.
— О нашей встрече и беседе никто не должен знать, — закончил разговор Глеб Константинович. — С сегодняшнего дня привыкайте вести себя как разведчик: скрывать, изучать, анализировать и, главное, НЕ БОЛТАТЬ! Разведчик жив лишь до тех пор, пока он молчит о себе и своих делах.
Мы расстались. Иван Дмитриевич привычно ухмыльнулся мне на прощание, пожал руку — она у него оказалась на удивление сильной и костлявой. Я остался один в аудитории. Все эти окончания глаголов, местоимений мертвого языка неожиданно исчезли, умерли, как и сам язык. В сознании засело только одно — я приобщен к когорте лучших, когорте защитников Родины, мне доверят обеспечивать ее безопасность…
* * *
Не хочу вспоминать, какой у меня был год после той знаменитой встречи с чекистами. Я выполнял свое первое поручение — учился, не вылезал из института по десять часов. В общежитие и в институт ходил пешком около пяти километров, и все это время, пока шел, говорил по-английски, составляя целые рассказы и описывая в подробностях, что видел в определенный час. Я заучивал целые страницы оригинальных текстов. Мне нравилось отыскивать диалоги, выучивать их и иногда говорить языком героев. Елену Николаевну нельзя было провести: когда я по ее заданию беседовал с нашими девочками, она загадочно улыбалась и бросала короткие реплики: «Голсуорси, Теккерей, Шекспир, Бернард Шоу», — а потом предлагала: «Опиши-ка нам портрет Наташи Маноли».
И я начинал говорить о ее глазах, волосах, губах и добавлял из какого-нибудь произведения, что для меня было бы наивысшим наслаждением прижаться к ее губам. Елена Николаевна тихо смеялась, а Наташа лишь глупо улыбалась — ей было не под силу понять те фразы и выражения, которые я почерпнул из английской классики и сыпал на ее голову.
Госэкзамены повисли надо мной как домоклов меч: не боялся сдачи языков, тут я как рыба в воде. А вот языкознание — эта придуманная Н. Я. Марром формула возникновения языка от каких-то «соль, рожь, огонь» и т. д., которые потом якобы развились в язык, — было полной чушью. Я пытался добросовестно проштудировать «Советское языкознание», но у меня не доставало никаких сил привести весь марровский бред к логическим рассуждениям. Не лучше обстояло дело и с марксистско-ленинской философией.
Я начинал думать о себе лестно. Возможно, я кретин, лишенный научного логического мышления. Там, где Ленин спорит с Богдановым и Михайловым, я еще врубался, но я злился на Гегеля: он такой умный, а твердит глупость, что ничто не существует вне нашего сознания. Но я хорошо воспринимал теорию «отрицания отрицания» — мне было понятно, что старое отмирает или, говоря философским языком, отрицается, а новое зарождается внутри старого и отрицает старое. В природе все это так и есть: старое отмирает, а новое весной нарождается. Но вот когда эту идею Фейербах потащил на общество: внутри старого общества зарождается новое и это новое отрицает старое, — я стал в тупик. Из капитализма родится социализм путем противоречий и взрыва, а из коммунизма что? Значит, конец теории отрицания отрицания применимо к обществу? Вот бы спросить об этом профессора Бугу — как он выкрутится. Нет, я эти дурацкие вопросы не задам ни профессору, ни академику — из партии исключат за сомнения. А меня только что приняли — так надо было для моего будущего. Какой же я разведчик без коммунистической партии? Когда меня принимали в райкоме, так одна старая комсомолка двадцатых годов, чуть ли не делегат Третьего съезда комсомола, где Ленин дал всем ценный наказ: «Учиться, учиться и учиться!», просто допекла меня идиотскими вопросами. «Почему решил вступить в партию?» — «Хочу активно участвовать в строительстве коммунизма!» — «А без партии не будешь участвовать?» — «Буду, но хочу в первых рядах строителей!» — «Почему тогда раньше не вступал в партию?» — «Не был достаточно сознательным». — «А когда же ты стал сознательным?» Ну, ведьма! Кого хочешь доконает! Ее и в партийной комиссии, наверно, держат потому, что она Ленина видела. «А вам сколько лет было, когда вы стали сознательной и вступили в партию?» — не удержался я и вызвал ее ярость себе на голову. Мне показалось, что ее седой крысиный хвостик поднялся дыбом. «Как ты смеешь меня допрашивать? — взвизгнула она. — Гнать таких надо! Близко к партии не подпускать! Он опозорит честь и совесть партии!»
Читать дальше