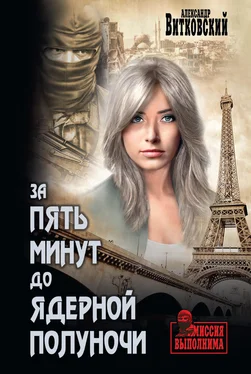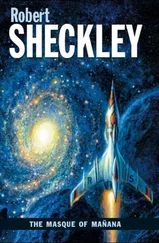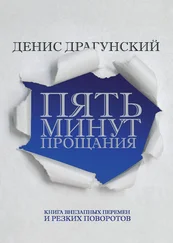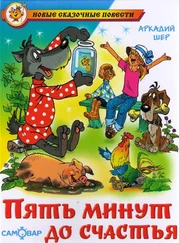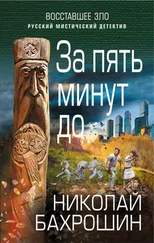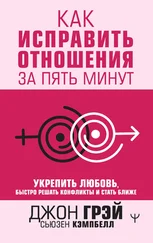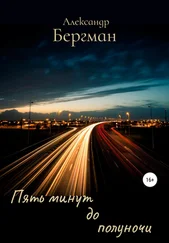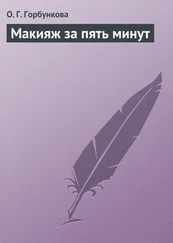– Вот и попробуй представить, – продолжал наседать Гарушкин, – что в 170-миллионном Пакистане, где 40 процентов прозябают в нищете, а часть территории контролирует талибан, произойдут массовые беспорядки. И кто даст гарантию, что пакистанское ядерное оружие не окажется в руках радикальных исламистов? Представляешь, что тогда будет?
– Весь этот регион труднопредсказуем. Еще в 1972 году бывший президент Пакистана Зульфикар Али Бхутто заявил: «Мы будем делать атомные бомбы, даже если нам придется есть траву». Вот так, сказал и сделал. Правда, потом его повесили…
Американец замолчал, словно обдумывая, развивать ли дальше острую тему. Возникшей паузой воспользовался Гарушкин.
– Так почему же весь свой праведный гнев вы обрушили на Иран, а не на Пакистан?
– Не совсем так. Когда в 1990 году Пакистан начал разработку своего ядерного оружия, мы ввели против него ряд санкций и отказали в военной помощи. Но вскоре поняли: если мы не можем остановить ядерную программу Исламабада, то можно попытаться хотя бы ее контролировать, а еще лучше – управлять процессом… Знаешь, за это признание меня не только снимут с должности, но и отправят в тюрьму за разглашение государственной тайны.
– Не такая уж это и тайна, – усмехнулся Гарушкин. – Недавно индийская газета «Times of India» сообщила, что строительство ядерного реактора в Кушабе велось на деньги США, выделяемые в качестве военной помощи.
«Черт возьми, в который раз убеждаюсь, что этот русский далеко не дурак. Весьма дозированно и точно использует собственную развединформацию, но ни разу не проговорился о своих конфиденциальных источниках, оперируя сведениями, полученными будто бы из анализа открытых материалов. Профессионал! Это не Хрущев, который в эмоциональном порыве мог свой башмак в ООН демонстрировать да кузькину мать вспоминать…»
В Джоне вдруг забурлила давняя злость на русских. Спрятанная где-то глубоко в подкорку, она уже давно клокотала и была готова вырваться наружу, и сдержать ее было ох как непросто. Эти медведи перестали быть советскими, но еще остались имперско-русскими.
Но, обуздав эмоции, он продолжил:
– Вся разница в том, что Пакистану мы доверяем как своему проверенному во время войны в Афганистане союзнику, а Иран – черная дыра с неуправляемыми политическими процессами, непредсказуемым режимом и неадекватными религиозными фанатиками-лидерами.
– Может быть, оно в некоторой степени и так, но союзники приходят и уходят, а глобальные интересы остаются, – заметил Гарушкин.
– O’kay. На этом фундаменте стоит весь мир и строится вся международная политика.
Беседа длилась значительно дольше запланированного времени и могла бы продолжаться, но пора было подводить итоги.
– Считаю, мы не зря потратили три с половиной часа. – В финале встречи Джон вновь взял на себя инициативу. – Могу я информировать свое руководство, что мы пришли к согласию и договорились о главном?
– Насколько я понимаю, выбора у нас нет. Президентские поручения не обсуждают, а выполняют.
– Вот и прекрасно, – американец довольно потер руки. – Я думаю, что все технические детали выполнения нашей миссии мы обдумаем самостоятельно, затем обсудим их и согласуем по телефону. Кстати, уже есть договоренность, что между нашими кабинетами будет действовать защищенная линия телефонной спецсвязи. По другим средствам связи – никаких разговоров на эту тему.
– Разумеется.
Оба разведчика – профи экстра-класса – с полуслова понимали друг друга и не заморачивались на мелочах.
– Рад был нашему личному знакомству. – Джон умышленно сделал смысловой акцент на слове «личному» и протянул Гарушкину руку.
– Взаимно, – лаконично ответил Николай, пожимая узкую и жесткую ладонь собеседника.
* * *
«И все же, не ввязываемся ли мы в глобальную авантюру, не подставляет ли нас Дядя Сэм, исповедующий законы Макиавелли? – продолжал размышлять Гарушкин, выезжая на «Ауди» из ворот американского посольства. – Подумать только, всего несколько лет назад мы с Соединенными Штатами были непримиримыми врагами, готовыми не на жизнь, а на смерть воевать друг с другом. А сегодня становимся друзьями-заговорщиками. Хотя почему сегодня? Тайная дипломатия всегда исходила из простой, очевидной, даже банальной, но очень важной мысли: у государств нет постоянных друзей и врагов, есть лишь собственные интересы. В политике именно они становятся во главу угла. В тридцатые годы, когда Советский Союз был фактически в мировой политической изоляции, пришлось поддерживать довольно тесные дипломатические и экономические отношения с фашистской Германией. Можно сказать, два отвергнутых миром государства вынужденно заключили временный союз. В годы Великой Отечественной войны нужно было выстоять и победить Третий рейх, и СССР пошел на союзнические отношения с американцами, англичанами и французами – непримиримыми классовыми врагами, «эксплуататорами трудового народа», которые всего за два десятка лет до этого воевали против молодой Советской республики. А после войны всем социалистическим лагерем Восточной Европы, Кубой, Северной Кореей, Вьетнамом, Китаем и еще Бог знает с кем сообща рыли яму мировому империализму…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу