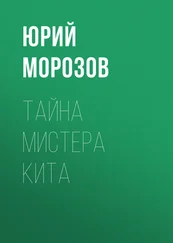Станислав помычал, и отец добавил, глядя на Галактионову:
– Не испорти себе жизнь, как сама знаешь кто.
Тень за спиной Галактионовой, казалось, стала выше и тяжелее.
– Да не испортит… – буркнул Станислав, но и сам почувствовал, что прозвучало это неуверенно, будто щебет птенца.
В темноте под епитрахилью были только духота и звуки. Пахло лежалой тканью, шёпотом молились заключённые, шуршала одежда. Голос старца, певучий и тонкий, надреснутый, разносился над Иннокентием:
– Господь и Бог наш Иисус Христос благодатию и щедротами Своего человеколюбия да простит ти, чадо Иннокентий, вся согрешения твоя.
Иннокентий передвинул затёкшими коленями и прошептал «Прости, Господи». Перекрестился. На него повеяло чем-то тёплым и радостным: бархатной осенью, бликами солнца на воде, чистым воздухом.
– И аз, недостойный иерей, – продолжал старец, – властию Его мне данною, прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь.
Епитрахиль скользнула с макушки Иннокентия. На секунду или две его ослепило солнце, а потом он увидел над собой руку – она тянулась сверху, из золотого сияния.
Иннокентий прижался лбом и губами к этой руке, чувствуя ее бугры и морщины. Затем она собралась в щепоть, перекрестила его и помогла подняться с колен.
Иннокентий размял затёкшие ноги, проморгался.
Солнце ушло куда-то в сторону, и он вновь оказался в привычном храме колонии. Горела свеча на престоле, молились редкие заключённые, успевшие подать заявления «на храм» – все в черной арестантской форме, как и Иннокентий, все в окружении надзирателей.
Раньше подобные службы случались редко. На Пасху или Рождество иногда наезжал «крестный ход» с позолоченным попом, который раздавал благословения и кропил через зарешеченные форточки, но в остальное время все просьбы заключённых о богослужении встречали отказ.
Раньше, да. Теперь был храм, который Иннокентий сам помогал строить, который сам чистил, мыл, украшал перед службами. Иннокентий знал, что в пять вечера солнце озаряло Архангела Михаила, и его лик будто светился сам по себе. В семь утра, вместе с рассветом сюда просачивались «красные» и обыскивали алтарь, престол, требник – каждый угол, будто там было, что прятать. Даже сейчас в дверях нетерпеливо подглядывал на часы начотряда, которому требовалось следить за богослужением. За начотряда солнце заливало светом траву, зелёный забор с колючей проволокой и зелёную вышку с автоматчиком. Чуть дальше блестела голубая лента реки, а за ней уступами к свободе и лесу поднималась бетонка.
– Галактионов! – крикнул начотряда, заметив взгляд Иннокентия. – На выход собираемся? Или ещё годик посидишь?
Иннокентий с силой провёл ладонью по своей лысине и посмотрел на старца. Без солнечного нимба монах превратился в старичка из советских сказок, забавного и какого-то родного.
– Не нравится мне это, – прошептал Иннокентий. Старец почесал крючковатый нос и поинтересовался:
– Мне припомнить фразеологизм – из тех, что всуе не упоминаются?
– Да уже наслушался твоих фразеологизмов. Ну скажи: кто меня там ждёт? Кто?
– Они не ждут, а ты им – радуйся. Каждому взгляду их и слову. Радуйся и помни, что их обидой тебя Господь испытывает.
– Галактионов, хватит сопли разводить! – крикнул начотряда.
Иннокентию захотелось стукнуть его пару раз об алтарь, и он перекрестился со словами «Господи, дай мне смирения». Несмотря на эти потуги, в душе не прибавилось ни смирения, ни уверенности, что условно-досрочное принесёт хоть каплю радости.
– А если никогда они не простят? – обратился он снова к старцу. – А я, как дурак?..
– Галактионов, на выход! – заорал уже где-то над ухом начотряда.
Иннокентий прикрыл глаза, и в блаженной темноте под веками услышал напевный голос старца:
– Значит, это испытание твое. Жить с ними рядом, любить их, но самому не быть ими любимым.
Иннокентий поднял взгляд на старца. Тот печально улыбнулся, словно знал, какие именно испытания уготовлены Иннокентию, и кивнул головой – мол, все, пора.
Уже не прощаясь, не обращая внимания на начотряда, Иннокентий пошел прочь – из храма, из КПП, из колонии. На свободу. В первый раз за пятнадцать лет.
Коридор больницы пах лекарствами и хлоркой. До середины стен его выкрасили небесно-голубым, от середины – оставили белым. Под ногами скрипела растрескавшаяся голубая плитка, но в окнах блестели новые стеклопакеты и бугрилась строительная пена.
Читать дальше