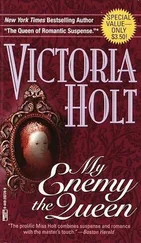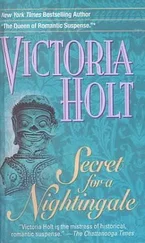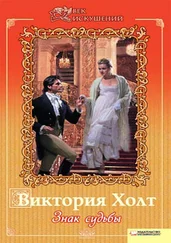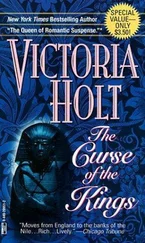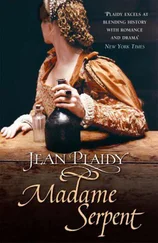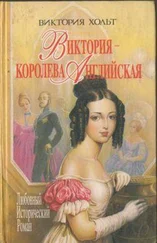Я представляла Дилис и ее семью в их доме с конюшнями в Найтсбридже, рядом с парком. Как же ее жизнь отличалась от моей!
Я хотела ответить ей, но, что бы я ни написала, получалось мрачно и тоскливо. Могла ли Дилис понять, каково это – не иметь матери, которая строит вместо тебя планы на твое будущее, и страдать от холодности отца, который настолько занят своими делами, что не замечает возвращения дочери?
Поэтому на письмо Дилис я так и не ответила.
С каждым днем дом казался мне все невыносимее, я все больше времени проводила на свежем воздухе, катаясь верхом. Фанни криво усмехалась, глядя на мою амазонку, самую модную в Париже, купленную благодаря щедротам дядюшки Дика, но мне было все равно.
Однажды Фанни сказала мне:
– Ваш отец сегодня уезжает.
Лицо ее при этом было непроницаемым, будто закрытая дверь, и я понимала, что Фанни нарочно сделала его таким. Невозможно было сказать, одобряет она отъезд моего отца или нет. Мне было понятно лишь то, что она хочет что-то скрыть и мне не позволено узнать эту тайну.
Потом я вспомнила, что отец и раньше, бывало, уезжал куда-то на целый день, а когда возвращался, мы все равно его не видели, потому что он запирался в своей комнате и подносы с едой ему относили туда. Появившись наконец, он выглядел опустошенным и еще более молчаливым, чем обычно.
– Я помню, – сказала я. – Так он по-прежнему… уезжает?
– Регулярно, – ответила Фанни. – Раз в месяц.
– Фанни, куда он ездит? – прямо спросила я.
Фанни пожала плечами, мол, это не касается ни ее, ни меня, но я была уверена, что она знает.
Весь день я думала об отце, пытаясь найти ответ на этот вопрос, и наконец меня осенило. Он был не так уж стар. Сколько ему было лет, я не знаю, думаю, около сорока. Наверняка он еще не утратил интереса к женщинам, хоть и не женился снова. Я казалась себе искушенным человеком. Я множество раз обсуждала разные житейские вопросы со своими школьными подругами, многие из которых были француженками. А французы всегда куда более сведущи в подобных делах, чем мы, англичане, хоть и считаем себя людьми весьма передовых взглядов. Я решила, что у моего отца была любовница, к которой он регулярно наведывался, но на которой никогда не женится, потому что никто не мог заменить мою мать. После этих встреч, считала я, он возвращался домой, терзаемый угрызениями совести, потому что, хоть мамы давно не было на свете, он продолжал любить ее и считал, что этим оскверняет память о ней.
Вернулся отец следующим вечером, и все было примерно так, как мне помнилось. Я не видела, как он приехал, знала лишь, что теперь он снова сидит взаперти у себя в комнате, что он не выходит к столу и что еду носят ему наверх.
Когда же отец появился, вид у него был до того несчастный, что мне захотелось его утешить.
Вечером за ужином я обратилась к нему:
– Отец, вы не заболели?
– Заболел? – Его брови тревожно сдвинулись. – С чего ты взяла?
– Вы так бледны, и у вас усталый вид. По-моему, вас что-то беспокоит. Я подумала, может, я могу чем-то помочь… Я ведь уже не ребенок.
– Я не болен, – отрезал он, не глядя на меня.
– Тогда…
Заметив нетерпеливое выражение на его лице, я заколебалась. Но решила, что не позволю так просто от меня отделаться. Он нуждался в добром слове, и мой дочерний долг велел прийти ему на помощь.
– Отец, послушайте, – смело сказала я. – Что-то не так, и я это чувствую. Возможно, я смогу вам помочь.
Тут он взглянул на меня, и нетерпеливое выражение сменилось холодным спокойствием. Я понимала, что отец намеренно выстроил стену между нами, что ему неприятна моя настойчивость и он воспринимает ее как проявление любопытства.
– Мое дорогое дитя, – тихо промолвил он, – у тебя слишком развитое воображение.
Он взял нож и вилку и принялся за еду с куда бóльшим интересом, чем до того, как я заговорила. Я поняла. Это было вежливое указание оставить его в покое.
Редко когда я чувствовала себя так одиноко, как в тот миг.
После этого наше общение утратило последние остатки непринужденности и часто, когда я обращалась к отцу, он даже не отвечал мне. В доме говорили, что у него был очередной «приступ».
Дилис написала снова; она сетовала, что я так и не рассказала ей, как у меня дела. Читать ее письма было все равно что слушать ее: короткие предложения, подчеркивания, восклицательные знаки – все это производило впечатление возбужденного, сбивчивого рассказа. Она училась делать реверанс, брала уроки танцев: великий день приближался. Было чудесно оказаться вдали от властной мадам и чувствовать себя не школьницей, а модной леди.
Читать дальше