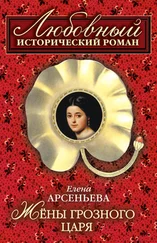И, блеснув на прощанье улыбкой, Грунский умчался.
Алена задумчиво постояла в коридоре, исподлобья поглядывая на какого-то тихого психа, который сосредоточенно елозил шваброй по полу. Иногда он замирал, всматривался в линолеум, разыскивая, похоже, только ему одному видимую грязь, а потом снова принимался за дело. Швабру он держал как-то очень своеобразно – далеко отставив от себя на вытянутых руках. Может, боялся, что она вдруг выскочит да ка-ак хлопнет его лбу… Почему-то Алене вдруг показалось, что все ее «телодвижения» последних дней напоминают точно такое же высматривание чего-то не вполне реального, видимого только ей, только одной ей… да и ей не слишком-то видимого, скорее всего чувствуемого! Может быть, она уже начинает свихиваться на «Ковре-самолете» и скоро начнет умолять окружающих не пускать ее в музей, дабы не уничтожить бесценное произведение искусства?
Ой, нет, пора уходить отсюда. Здесь такая атмосфера… уж очень располагающая к сомнениям в себе! Лучше пойти… в морг. Нет, ну в самом деле, почему бы туда не пойти?! Давненько она не была в обители упокоившихся тел.
Помнится, на заре журналистской юности привелось как-то побывать в городском морге. Надо было написать очерк о каком-то заслуженном патологоанатоме. Лена (тогда ее звали еще Леной Володиной, явление Алены Дмитриевой даже и вообразить было невозможно!) боялась до обморочного состояния, однако в самом морге ей не было ни страшно, ни даже как-то особенно противно. Раздражал только запах формалина, но и к нему она быстро привыкла. Вот только плакать отчего-то хотелось все время. Впрочем, она знала отчего: при ней туда привезли трупы двух любовников, угоревших в автомобиле (дело было зимой, морозы стояли страшнейшие). Они были полураздеты – заснули вечным сном, не успев разомкнуть объятий, – и Лене было жалко их невыносимо. А впрочем, уже тогда в ее невинное (ну сколько ей там было лет, двадцать, двадцать один, что ли?) сознание закралась мыслишка, что хоть смерть этих двоих и кажется бессмысленной и даже позорной, но ведь это лишь с позиций общечеловеческой суетни, которой они теперь совершенно чужды. А они, может, только о том и мечтали, чтобы не разлучаться ни в жизни, ни в смерти…
Может быть. Но сейчас к этому давнему и несколько даже лирическому воспоминанию немедленно примешалось воспоминание самое что ни на есть «свежее»: о том, как забивал горло и легкие запах бензиновой гари, о том, как беззвучно, уже предсмертно шелестели ее губы, прощаясь с тем, кого она так любила.
Нет!
Алена так резко сорвалась с места, что тихий псих-уборщик метнулся в угол и замер там, прижав к груди швабру, словно любимую женщину.
– Извините, – пробормотала Алена дрожащими губами и пробежала мимо него.
Вниз, вниз по лестнице, взять плащ в гардеробе, скорей во двор, теперь на улицу… Ох, как здесь хорошо! А теперь домой, домой, сразу направо, дойти по улице Ульяновых до Провиантской, потом вниз, на Ковалиху, оттуда наверх, на родимую Ижорскую, которая, по сути дела, есть не что иное, как продолжение улицы Провиантской…
И все было бы иначе в жизни нашей героини, если бы она сделала так, как собиралась, и пошла бы или даже побежала бы к себе домой. Однако, словно повинуясь некоей неведомой силе, она повернула налево вместо того, чтобы повернуть направо, и шла по улице Ульянова до тех пор, пока перед ней не выросло высоченное и широченное серое здание пятой городской больницы. Здесь Алена еще немножко побродила вокруг да около, пока не выяснила, где именно находится морг, и скоро уже входила в небольшой флигелек, притулившийся в глубине просторного больничного двора, среди многочисленных невыразительных хозяйственных построек.
Москва – Нижний Новгород, 1880 год,
из писем Антонины Карамзиной
«Ну слушай, Николашка, тут творятся такие дела, что мне некогда за письмо сесть! Помнишь, я тебе писала о своем триумфе, после которого В.М. сжег свои прежние эскизы? Мы все уходили в подавленном настроении. Меня до Ордынки провожал Вистоплясов. Шел молча, я все ждала, когда он разомкнет уста и подвергнет самой уничижительной критике все мои речения. Однако он только глазел по сторонам. И лишь когда достигли мы уже моего дома, вернее, не моего, а Аграфены Ивановны Колобовой, у коей я снимаю комнату, отверз уста и изрек:
– Вы, барышня, математике обучались в гимназии?
– А как же, – говорю, – без нее?
– То есть слово «формула» – для вас звук не пустой?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу



![Елена Арсеньева - Жены грозного царя [=Гарем Ивана Грозного]](/books/311435/elena-arseneva-zheny-groznogo-carya-garem-ivana-g-thumb.webp)






![Елена Арсеньева - Тайная жена [litres]](/books/428666/elena-arseneva-tajnaya-zhena-litres-thumb.webp)