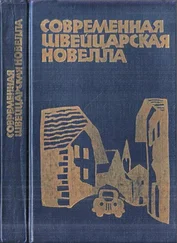Я отложил газету в сторону и вспомнил про конфеты, о которых толковал Слибульский. Вероятно, именно это дерьмо Аренс и поставлял в Хорватию. Следовательно, его фирма все-таки функционировала. Кроме того, в газете я нашел ответ и на другой вопрос: почему рэкетиры устраивают этот маскарад и почему им нельзя произносить ни слова — чтобы не выдать мафию, руководимую хорватами и отрубающую пальцы немецким владельцам ресторанов, что отрицательно сказалось бы на выделении кредитов. Это означало, что главари «Армии здравого смысла» были связаны с высшими властными структурами Хорватии и их личные интересы во многом тесно переплетались с национальными интересами страны. Иначе бы часть кредитов не оседала в их карманах. Насколько мне было известно, хорватский президент не входил в число несгибаемых борцов с коррупцией и мафиозными группировками. По всей видимости, он и не стремился к такой репутации. Видел я и снимок его яхты, который в чем-то перекликался со вчерашней фотографией над стойкой хорватского бара.
Визит министра внутренних дел планировался на ближайшую субботу. Оставалось три дня. Я заплатил и вернулся домой. Потом позвонил одному знакомому, который занимался лагерями беженцев. Он назвал мне лагерь, в котором размешались преимущественно боснийские беженцы.
Шел дождь, и перед зданием, в котором когда-то находился молодежный лагерь, стояли лужи, которые пришлось обходить по скользкой грязи. Войдя в здание, я очутился в темном коридоре, пахнущем едой и дезинфекционными средствами. С потолка свисали таблички: «Столовая», «Душевая», «Медицинский пункт». В соответствии с направлением, указанным стрелкой, я двинулся к комнате секретариата. На стенах по обеим сторонам висели плакаты евангелической церкви, на которых были изображены белые и темнокожие молодые люди, призывавшие любить ближнего независимо от цвета кожи. Между плакатами виднелись серые листки, запрещавшие курить, шуметь, скапливаться, есть и пить в коридорах. Эти указания, насколько я мог судить по пустующим коридорам, свято исполнялись. Навстречу мне не попалась ни одна живая душа, и только отдаленный детский писк и позвякивание тарелок указывали на то, что в доме кто-то есть.
Секретариат находился в конце темного коридора. Я постучал в дверь, ожидая услышать сухие фразы в приказном тоне, но вместо этого раздался бодрый голос: «Да-да!» Когда я вошел в помещение, меня ослепил яркий свет нескольких неоновых ламп. Привыкнув к нему, я увидел, что оказался в скучном казенном кабинете с обшарпанной мебелью: на стенах кнопками были прикреплены постеры с рекламой турфирм, смешными вырезками из газет, настенными календарями с видами природы. За письменным столом сидела не совсем обычная для такого места сотрудница лет сорока пяти, а на стуле перед ее столом — девочка лет четырнадцати.
Женщина была натренированной настолько, что на ее теле отсутствовали малейшие признаки жировой прослойки. Судя по ослепительной улыбке, обнажавшей зубы безупречной белизны, она находилась в отличном настроении. На ней была блузка с короткими рукавами, подчеркивающая мускулистые руки, с рисунком, изображавшим экзотических животных, в ушах — серьги в виде головы Чарли Чаплина, на шее — цепочка, на которой болтался маленький Будда. Ее белокурые волосы были заплетены в толстую косу, кокетливо перекинутую через плечо на грудь. Она как нельзя лучше вписывалась в этот серо-зеленый интерьер секретариата лагеря для беженцев. Что касается сферы полномочий дамы, было очевидно, что здесь ей принадлежит решающее слово.
В отличие от нее, девочка имела довольно жалкий вид и, казалось, сошла с плаката Красного Креста — худенькая, истощавшая, в потрепанных джинсах и грязной футболке, руки в царапинах и синяках, на подбородке — короста из запекшейся крови. Своими карими глазами, под которыми чернели усталые круги, она скептически оглядела меня, словно хотела понять, не по ее ли душу я сюда явился, а если да, то что замышляю — хорошее или плохое. Возможно, ей было больше чем четырнадцать. По виду трудно было точно определить ее возраст. И вообще, с определением возраста — от половой зрелости до двадцати пяти лет — у меня была полная неразбериха в голове. Иногда я принимал ребенка за взрослого, а иногда — совсем наоборот.
— Добрый, добрый день! — пропела женщина, подчеркнуто повернувшись в мою сторону, и с таким повышенным вниманием, будто хотела полностью заслонить собой девочку, словно ее здесь вообще не было. По-видимому, она стеснялась беспорядка в кабинете или астральности своего тела, а может быть, это была ее манера общения в присутствии мужчины и ребенка в одном помещении.
Читать дальше
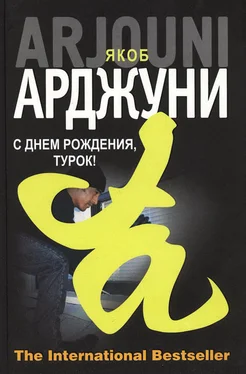

![Якоб Гримм - Сказки Черного леса [сборник]](/books/33101/yakob-grimm-skazki-chernogo-lesa-sbornik-thumb.webp)