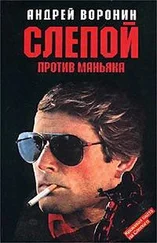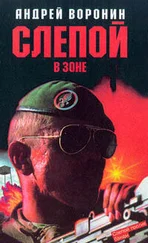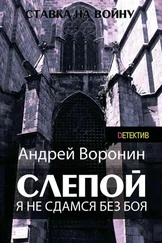В этой квартире прожили жизнь три поколения Крестовских — Дмитрий был единственным представителем четвертой и, надо полагать, последней генерации некогда славного рода, — и почему бы кому-то из них было не припрятать что-нибудь на черный день? Отец и мать, к примеру, явно не планировали свою смерть в автомобильной катастрофе заранее, и гипотетические тайники с небольшими суммами, отложенными ими на подарки ко дню рождения или, скажем, на покупку новой мебели, вполне могли их пережить.
Или, скажем, дед… Нет, дед — это, скорее всего, пустой номер. Профессорский, более того, дворянский сын, член семьи врага народа, он был так напуган судьбой своего отца, что выслуживался перед Советской властью как мог — писал пламенные передовицы, вдалбливал азы грамматики в еловые головы так называемой «красной профессуры», в сорок первом ушел добровольцем на фронт, воевал в ополчении, чудом остался жив и вернулся домой, дойдя до Берлина, весь увешанный орденами, — нет, ЭТОТ предок Дмитрия Крестовского вряд ли припрятал что-нибудь от своей горячо любимой власти.
А вот прадед — тот мог. Большевиков он ненавидел лютой ненавистью и никогда этого не скрывал, поэтому и сгинул где-то на Колыме. Такое развитие событий он наверняка предвидел заранее и, очень может статься, позаботился о том, чтобы во время обыска господа чекисты получили кукиш с маслом… Так как насчет царских червонцев?
Сладостное видение увесистой холщовой колбаски, туго набитой золотыми николаевскими десятками, так неотступно маячило перед внутренним взором Дмитрия, что он почти уверовал в ее существование. «Ищи, ищи! — пронзительно вопил в самое ухо неугомонный бес. — Хорошо ищи! Лень — мать всех пороков! Не гордыня, а именно лень! Через месяц тебя отсюда выселят к чертовой матери, и все, чего ты не нашел, достанется новым хозяевам. Хочется тебе этого? Нет? Тогда ищи!»
И он искал — искал до тех пор, пока удар ржавым коньком по темени не привел его в чувство. Сидя на кухне с дымящейся сигаретой в руке и обозревая картину учиненного им разгрома, Дмитрий с полной ясностью осознал: ничего здесь нет — ни заначек, ни тем более кладов с золотыми монетами. Эти три комнаты, являвшиеся лишь частью огромной квартиры, некогда целиком принадлежавшей Крестовским, пережили многое и не раз меняли хозяев, прежде чем снова отошли деду. Даже если прадед что-то и припрятал, то почему обязательно в этой части квартиры? И вообще, почему обязательно в квартире, а не на чердаке или, скажем, в подвале? А если даже и в квартире, то уж никак не в комоде и не в антресоли…
— Вот и разгребай теперь это дерьмо, — вслух сказал себе Дмитрий, потушил в пепельнице окурок и отправился «разгребать дерьмо».
Прямоугольный, обернутый пыльной холстиной предмет обнаружился почти сразу. Он лежал почти на самом верху кучи вывалившихся из антресоли вещей, из чего следовало, что изначально хранился в самой ее глубине. Холстина была крест-накрест перевязана толстой вощеной нитью; Дмитрий, никогда в жизни не видевший сапожной дратвы и даже не слышавший этого слова, тем не менее догадался, что это именно она и есть — дратва, которой сшивали («Тачали», — всплыло из глубин наследственной памяти еще одно полузнакомое, забытое слово) обувь.
Узел был затянут намертво — зубами не развяжешь, а дратва, несмотря на почтенный возраст, сохранила внушающую невольное уважение прочность. Подергав ее так и этак, Дмитрий с кряхтением поднялся с корточек и отправился на кухню за ножом.
«Старинная икона!» — немедленно подумал Крестовский, и сразу же возникло видение массивного золотого оклада.
Ножи у Дмитрия были острые, и дратва лопнула с негромким треском, едва соприкоснувшись с лезвием. Этот звук и ощущение мгновенно исчезающего сопротивления по ассоциации вызвали воспоминание далекого детства: отец разрешает Дмитрию вскрыть пришедшую от дальних родственников из Удмуртии бандероль. Она завернута в хрустящую оберточную бумагу и вот так же крест-накрест перевязана бечевкой, на которую сверху налеплена сургучная печать. Хруст новенькой вощеной бумаги, тихий треск разрезаемой бечевки и дурманящие почтовые запахи — все той же бумаги, бечевки и сургуча — заставляют маленького Диму ждать какого-то немыслимого чуда, тем более что бандероль получена по случаю дня его рождения и адресована лично ему. На вощеной бумаге рукой троюродной тетки написано имя его отца — «Крестовскому П. С», потому что у маленьких мальчиков не бывает паспортов, а без паспорта бандероль не отдадут, но в скобках добавлено: «Для Крестовского Д. П.». Точно такая же приписка была сделана и в казенном, украшенном почтовым штемпелем извещении на бандероль, и, увидев свое написанное «по-взрослому» (Крестовский Д. П.) да еще и заверенное печатью имя, он преисполнился торжественного сознания собственной значимости. На почту они ходили вместе, и, расписавшись в квитанции, отец посторонился, так что почтальонша вручила бандероль прямо Дмитрию в руки, перегнувшись через обшарпанный деревянный барьер…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу