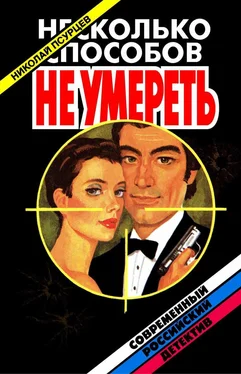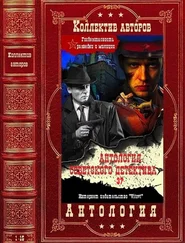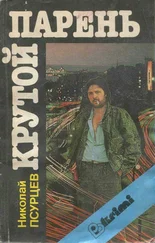Когда вернулся вчера от Можейкиной, все места себе не мог найти, все слонялся по квартире, все порывался уйти снова, только не знал куда, где спокойствие обрести, кто поможет ему вернуть прежнее привычно-беззаботное состояние. Все прикидывал и проигрывал варианты и один за другим отбрасывал, морщась с досады, злясь на себя, жалея себя, — что вот не обрел он в жизни своей места такого, где мог от мыслей душных освободиться — да, пожалуй, и не от мыслей даже, а так от неудобства, от ломоты душевной; что и человека такого не нашел, которому без стеснения, без оглядки, разом, сбивчиво можно было бы поведать о непонятностях своих, — и никаких советов не надо было бы ему и сочувствия, а надо было, чтобы просто человек этот ему приятен был, его человек, да и крепкий к тому же, надежный, не нюня…
Читать не читалось, телевизор раздражал, сумерки за окном и вовсе тоску нагоняли, безнадежную какую-то, беспросветную. Он попытался о чем-нибудь приятном вспомнить. Завтрашний день представить. Не смог, не получилось, все радости и приятности и вчерашние, и завтрашние пустячными, безмерно мелкими виделись, мало того что мелкими — ненастоящими. Подумал, может, выпить. Есть вон в баре целый арсенал напитков различной крепости и окраски. Вон они стоят, манящие яркие бутылки с настоящим мужским лекарством — панацеей от всех бед и горестей. Потянулся уже в зеркальное нутро полированной тумбы, но замерла рука в воздухе на полпути — вспомнил, что странное действие на него в последнее время спиртные напитки оказывают — не бодрят и не дурманят, лишь сил убавляют, голову тяжелят, не контрастируют краски вокруг, как раньше, — так стоит ли?
Вадим выключил телевизор, и телефон выключил, автоматически отметив, что вот уже несколько дней боится он телефона, морщится болезненно, когда вдруг резко начинает вызванивать он, — разделся, бросил одежду на пол и повалился на диван…
Однако все, хватит. Надо идти на работу. И хорошо, что надо, просто замечательно, что надо, не будет там времени задуматься, копаться в себе, покончить с сомнениями — все дела, дела, может быть, и не нужные тебе дела, может быть, и попросту не твои дела, но все-таки дела — работа. И выхолостит беготня эта и суета все то, что исподволь тревожит его, и снова обретет он ту самую безмятежность, в которой так привык пребывать, в которой так хорошо ему всегда было, так сладостно — поменьше тревог, поменьше волнений. Мельтешение знакомых лиц, бессмысленная болтовня в коридорах, смешки, шуточки, десятки разных привычных мелочей — и он станет таким же, как и прежде, забудет обо всем, наплюет на все. Прочь неудобства, да здравствует душевный комфорт!
Окно во всю стену — как экран для широкоэкранного и широкоформатного показа. И треть города в него вмещается, если у самого окна стоять, а если к дальней стенке отойти, то четверть, а может, и того меньше. А может, и вообще только десятую часть видишь, где бы ни стоял. Но все равно картинка что надо — крыши, чердаки, темные провалы беспорядочных переулков, окна, осыпавшиеся карнизы, голуби и почему-то дым в двух-трех местах. Откуда? Неужто камины сохранились? А что за крохотная серебряная точка небо прошивает? НЛО? Мираж? Все проще — самолет. Скучно. Всего лишь самолет. Данин затянулся и выдохнул дымок на окно. Дымок растекся слоисто по стеклу, замер, будто задумался, и обреченно потянулся вверх. На стекле быстро исчезал мутный запотевший кружок… На семиэтажном доме крышу красят. Мужики в спецовках по самому краю ходят, полшага, и тю-тю. И не боятся, черти, как по тротуару шастают. Вон девчонка в окне дома напротив промелькнула, вроде хорошенькая. Ну-ка, покажись еще. Совсем ничего, свеженькая, глазастая. Только что-то с одеждой у нее не в порядке — блузка красная, юбка зеленая.
— Теперь так модно? — спросил Вадим, ни к кому не обращаясь.
Никто ему ничего не ответил.
— Хомяков, скажите, пожалуйста, — не оборачиваясь, опять подал голос Данин. — Вы тоже модный? У вас черные пуговицы к серому пиджаку красными нитками пришиты?
За спиной у Вадима фыркнули по-собачьи. А Хомяков и впрямь на пса похож — на пекинеса, противненького такого, со вмятой мордой. И Татосов тоже на пса этого похож, и на Хомякова. Татосов и Хомяков вроде как «двойняшки». «Ученые», — хмыкнул Вадим и обернулся. Левкин почему-то слишком поспешно отпрянул от Маринки, с которой сидел рядом и что-то ей объяснял с карандашом в руках. Целовались, что ли? Не… Если б целовались, то Татосов и Хомяков давно бы в обморок попадали, валялись бы сейчас и всхрипывали, и пришлось бы «скорую» вызывать, деньги на апельсины собирать… А Левкин мужик ничего, здоровый, громогласный, разухабистый, только уж больно хозяйственный, все свертки да сумки, колбаса да молочко. А когда на Маринку смотрит, у него глаза, как у коровы, делаются.
Читать дальше