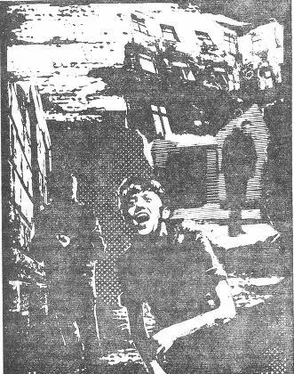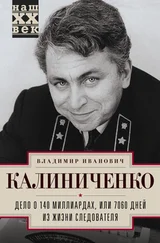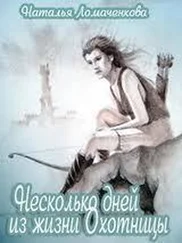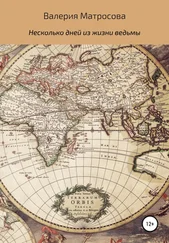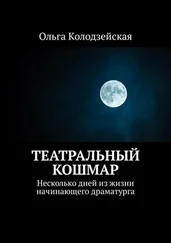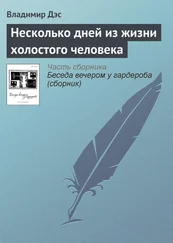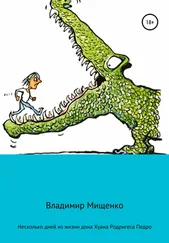Жена удивленно поглядела на Симонина, вроде бы опять намеревалась встрять, но не решилась.
Дело № 23561.
Секретарша вручила Петрушину пакет, который он ждал с нетерпением.
«...Изучением следа, обнаруженного на внешней поверхности крышки ящика-сейфа при опылении восстановленным железом в смеси с сажей и откопированного на светлую дактилопленку, установлено: в следе отобразилась центральная часть завиткового папиллярного узора, внутренний рисунок которого имеет вид петли-спирали. Потоки папиллярных линий направлены по ходу часовой стрелки. В следе отобразилось достаточное количество мелких признаков, что позволяет признать его пригодным для установления личности...»
Переведя дух, Петрушин с опаской и надеждой принялся читать дальше.
«...Сравнительным исследованием установлены совпадения как по общим, так и по мелким признакам, которые в своей совокупности индивидуальны и дают основания для вывода о том, что след участка ладони на лицевой части крышки ящика-сейфа оставлен ульнарным участком кожного покрова ладони левой руки Сапогова».
Петрушин облегченно вздохнул и расслабился: «Это уже что-то, с этим надо считаться. Но главное впереди, на следующей странице акта».
«...В представленном фрагменте следа, обнаруженного на внутренней поверхности крышки ящика-сейфа, папиллярные линии проходят двумя потоками. В левом потоке они образуют сложный рисунок в виде петли, у которой ножки направлены влево. В правом потоке папиллярные линии проходят снизу вверх, вертикально. Оба потока образуют у основания фигуру в виде дельты...»
Изучать «потоки» и их «основания» у Петрушина не хватило терпения, и он, перевернув страницу, заглянул в конец.
«...В результате раздельного сравнительного исследования установлен ряд совпадающих признаков фрагмента следа, оставленного на внутренней поверхности крышки ящика-сейфа, с оттиском ладонной поверхности правой руки Сапогова. Однако совокупности этих признаков недостаточно для идентификации личности».
Эти заключительные строки нельзя было читать без глубокого разочарования, и следователь испытал его. Он потерял верную улику. След, обнаруженный на внешней поверхности крышки, говорил лишь о том, что Сапогов прикасался к ящику, и не более того. Этот факт можно использовать в психологических целях, по сделать из него доказательство вряд ли возможно. Внешняя поверхность заветного ящика не являлась для Сапогова запретным местом — запретным были его внутренности. А здесь вышла осечка. Поскольку на самого Сапогова изливать досаду не имело смысла, а на кого-то излить надо было обязательно, Петрушин излил ее на эксперта-перестраховщика, который испортил ему улику. «Совокупности недостаточно»,— раздраженно повторял он про себя. — А кто определяет эту достаточность? Сколько нужно совпадений этих завитков и петель с раскоряченными в разные стороны ножками, чтобы было достаточно, — шесть, восемь, десять?»
Петрушин не сомневался в том, что след оставлен Сапоговым, Достаточно положить рядом фотоснимки, и их идентичность определится невооруженным взглядом. А если этого мало, можно наложить друг на дружку негативы и посмотреть на свет — линии совместятся, как защитная сетка на денежных купюрах. Да, это один след.
Но слава богу, что вопросы эти решает все же эксперт, а не следователь. Эксперту ровным счетом все равно, раскроет Петрушин это преступление или нет, — он за следствие не отвечает. Это один из немногих случаев, когда ведомственность, межучрежденческие барьеры и рогатки приносят обществу пользу. Эксперт должен отвечать и отвечает только за качество своей экспертизы. И пусть не один Петрушин, но и сам Сапогов клятвенно заверяет, что след принадлежит ему и никому другому, эксперт повторит свое заключение: «Совокупности признаков недостаточно».
Показав эксперту кукиш в кармане и сняв таким простым, проверенным способом раздражение, Петрушин стал прикидывать, можно ли использовать как-либо и этот ущербный отпечаток.
«Вызвать на допрос Сапогова и показать ему экспертизу следа на внешней поверхности крышки. Будет заметная растерянность, нервное дрожание нижней губы, вероятен синдром кататонического ступора. Затем, после мучительной паузы, возможны два варианта. Вариант номер один: тело Сапогова обмякает, лоб покрывается испариной, он просит воды, а затем охрипшим от пережитого голосом объявляет о своем чистосердечном раскаянии в содеянном и выражает желание тут же показать, где зарыты награбленные сокровища. Вариант номер два: Сапогов обмякает, лоб покрывается испариной. Неуверенным хриплым от пережитого голосом он делает заявление: «Ничего не знаю и знать не хочу. Отпечаток мой, но я оставил его тогда, когда по просьбе свояченицы Лели передвигал ящик, чтобы вымести из угла мусор и снять паутину». Хорошо, предположим. Я соглашаюсь и медленно достаю две другие фотокарточки. «Взгляните сюда, Сапогов, — говорю я. — Вот это — дактилоскопический отпечаток вашей ладони, зафиксированный несколько лет назад во время вынужденной процедуры ареста за особо злостное хулиганство, сопряженное с попыткой применения оружия. А это — отпечаток (я не буду говорить «ваш», пусть он сам это скажет), обнаруженный на внутренней поверхности крышки. Понимаете — внутренней... Посмотрите внимательно, здесь отмечены красными цифрами совпадающие признаки». Сможет ли Сапогов после первого стресса и наступившего вслед за ним расслабления пережить повторное потрясение, еще более кошмарное? Вряд ли. Дело будет кончено за полчаса».
Читать дальше