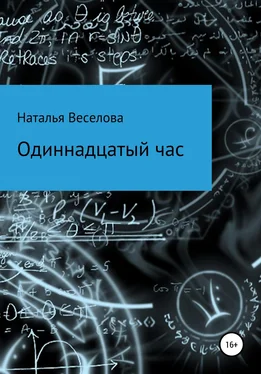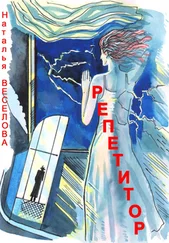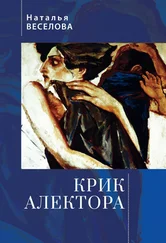…взметнулся – другого слова нет. Он завертелся по комнате, растерянно тычась то матери, то отцу в колени, и кружил, взвизгивая и поскуливая, пытаясь донести до хозяев то, что они, должно быть, еще не знали: там – живое! живое – там!
Через неделю Леона усыпили: мать не смогла вынести страшное зрелище шерстяной озабоченной морды, вечно просунутой сквозь прутья детской кроватки. Ей все виделись мириады смертоносных микробов, так и сигавших с собачьего носа на беззащитное грудное дитя.
Но меня усыпить было нельзя – меня погубили иначе. Спустя лет примерно семь мне удалось подслушать разговор матери и ее подруги – они делились за чашечкой кофе впечатлениями о своих детях. Тогда я узнала, что «когда родилась Маленькая, и мы привезли ее домой, я вдруг увидала Ирину – ее как раз няня привела с прогулки. Как меня тогда это потрясло – ты не представляешь! Я увидела, что Ирина – это же слоненок! Ей три года тогда исполнилось. Но, пока не было Ленусика, мне и в голову не приходило, что она такая большая, честное слово! Это просто откровение какое-то было!».
Но на самом деле пора откровений настала для меня. С того дня ни одна живая душа на свете не назвала меня больше не только Ирочкой, Иришей, но даже просто Ирой. Я превратилась в Ирину пожизненно, и с какого-то невнятного момента добавилось «Викторовна» – но до этого прошло много черных лет моего детства и юности.
Из самой необозримой дали, из тех дней, когда я еще не поняла, что меня никто не любит и не полюбит никогда, доносится лишь взвинченное материнское:
– Ирина, не прикасайся к Маленькой! Она такая хрупкая, ты ей что-нибудь повредишь!
– Ирина, не подходи кроватке с немытыми руками!
– Ирина, не дыши Маленькой в личико: ты ее чем-нибудь заразишь!
Да, это из тех незамутненных лет, когда я, дура мослатая, еще любила Ленусика. Когда я еще гордилась тем, что я, «большая» и «старшая», теперь вместе с другими «большими», но только «взрослыми» могу заботиться о крошечном человеческом росточке, лелеять] его, быть по-серьезному полезной…
Вот, помню, Маленькую собираются поить из бутылочки с соской. Я торжественно беру ее в руки и осторожно несу маме…
– Что ты хватаешь бутылку грязными лапами?! Она должна быть стерильной, придурковатая девка!
Придурковая девка трех с половиной лет в ступоре ужаса застывает посреди комнаты, пальцы ее немеют и разжимаются…
– Няня-а! Няня-а! Сил моих нет, уберите отсюда эту кретинку! Она чуть не угробила Маленькую!!
«Ничего-ничего», – успокаивала я себя лет в шесть. – «Ленусик скоро вырастет и тоже станет «большая». И тогда мама-с-папой полюбят меня обратно».
Страшная, роковая ошибка: Ленусик не выросла никогда. Мне было шесть, а ей три, мне десять, а она только пошла в школу, мне пятнадцать, а ей двенадцать и она болеет корью; мне восемнадцать, и уже я болею скарлатиной, и пятнадцать свечей торчат в одиноком торте, который мне не попробовать, потому что и ложку воды не проглотить…
Я навсегда – Ирина. С длинной лошадиной мордой, украшенной, к тому же, безобразными очками с толстыми стеклами; у меня несообразно огромные кисти и ступни, а сама я маленькая, и потому кажется, что я вечно ковыляю в одних ластах и размахиваю другими, всегда сокрушая что-то по дороге.
А Ленусик – навечно Маленькая. Она и родилась-то на свет идеальным младенцем, таким и умерла в тридцать семь лет, ко всем успев приласкаться и сознательно ни разу не причинив зла… Ее принесли из роддома кудрявую – и кудряшки не вылезли, как положено, а со временем превратились в чудесные пшеничные локоны. Синие, как у всех новорожденных, глаза так и не посерели и не покоричневели, а остались наивно-ультрамариновыми и обросли, к тому же, густыми угольными ресницами, ни разу в жизни не потребовавшими краски; румянец как зацвел однажды – так и погас лишь за неделю до смерти – и это несмотря на то, что рак, скосивший до того почти всю нашу семью, вцепился в нее рано, сожрал изнутри – но снаружи тронуть не посмел…
Красавица? Нет. Личико было, в общем, неправильное, ротик маленький (правда, мило надутый), носик излишне тонковат. Но все компенсировалось гармоничной резвостью, ничуть не напоминавшей моего бессильного, неэстетичного, угловатого редкого веселья. Вся Ленусик была – солнечный лучик, радующий без разбора и праведника и подонка…
Двухголовое чудище по имени «Мама-с-Папой», к которому я не знала, с какой стороны и подступиться, для Маленькой чудесно разделилось на «Мамусика» и «Папусика», и она умильно ластилась к обоим, горячо и нежно лепеча и сюсюкая – и так всю их жизнь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу