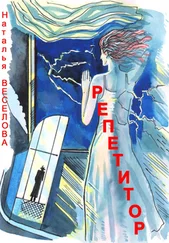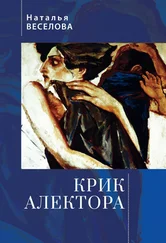Наталья Веселова
Жду тебя с Великой Любовью
Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство…
Евангелие от Марка 13:8; от Матфея 24:7
Квартира уже продана, идут торопливые и бестолковые сборы последних вещей. Невесть отчего выворачивающая душу картина: хлам на полу, чужие люди, грохочущие ботинками по светлому паркету, голые, как глаза без ресниц, окна, лишенные штор… За ними, в фиолетовой ночи, стынет внизу пустая детская площадка, почти не изменившаяся за те сорок лет, что я на ней не играла, сияют радужными венцами далекие небоскребы, дымится сухим колючим морозом вечный город – Третий Рим. Святки в разгаре, но уже много лет не жгут костров, не поют колядок – с тех пор, как подмосковная деревня Щукино обернулась частью огромного Северо-Западного административного округа столицы. А ведь пели же когда-то, наверное… Давно, очень давно… Задолго до того, как в начале пятидесятых годов был построен этот добротный дом-«сталинка», где и получил от работы двухкомнатную квартиру простой инженер – мой дедушка Дмитрий Владимирович Павлов, ветеран Великой Отечественной войны…
Роскошь, конечно: две высокие светлые комнаты, одна четырнадцати метров, другая – страшно сказать! – двадцати двух, кухня с горячей водой и газом, ванна в метлахской плитке, шестой этаж с замечательным лифтом… Это, если бы в нее вселялись два человека – как, например, наша покупательница с дочкой-школьницей. Дмитрий, во время оно осчастливленный служебной жилплощадью, въехал с женой Тамарой, двумя детьми – пятнадцати и семи лет, а также с тещей и тестем. Тесть вскоре умер, остались впятером… Но в пятьдесят шестом году двадцатого века показалось великой удачей вырваться из большой комнаты в коммунальной квартире, где безропотно, долгие годы, привычно разгородившись мебелью, проживали в том же составе – и не жаловались: после войны полстраны десятилетия не могло раскопаться из землянок. Но вот оно – счастье: свой дом! Что еще надо трудящемуся интеллигенту? Только спокойно и честно трудиться, растить детей, любить жену, уважать тещу…
Так и случилось: дети выросли, получили достойное образование, покинули родительский дом, а старшая так и вовсе сменила Москву на Ленинград… Ничего, завели сиамского кота, баловали его, как ребенка, читали английские книги, смотрели черно-белый телевизор, гуляли в Покровско-Стрешневском лесопарке, кормили серых белок… А потом пришли болезни, простые и – смертные. А за ними – колумбарий через стенку от Донского монастыря. И еще семнадцать лет миновало – когда другими интересами и стремлениями жила в этой квартире семья младшего ребенка – сына, известного ученого, – и его тоже не стало. Дочь Ольга продала квартиру, а внучка Наталья (разрешите представиться) – разбирала старые бесполезные вещи, не надеясь ни на какие ценности, потому что проказница-жизнь усмешливо распорядилась так, что… В общем, спасибо, хоть стены уцелели для продажи… И небольшой фанерный чемоданчик, обшарпанно-коричневый, с металлическими углами и наивным замочком, миниатюрный ключик от коего кто-то давным-давно продел на шнурке сквозь петельку ручки…
Собственно, возилась я с его вскрытием так, на всякий случай, ожидая увидеть очередные домашние лоскуточки-тряпочки-пуговички, бедненькие, – то ли для рукоделия, то ли просто позабытые. И вздрогнула, обнаружив, что реликтовый чемодан доверху набит письмами-треугольниками. Ошибиться было невозможно: так могла выглядеть только переписка военного времени. Письма – из тех, что, опаленные или полуистлевшие, с расплывшимися чернилами или вырванными клочками, истертые на сгибах, темно-желтые от времени, хранятся во всех музеях Великой Отечественной – от пролива Лаперуза до Калининграда. Но здесь, в двадцати минутах езды на метро от Красной площади, в январе 2016 года передо мной лежало горкой несколько десятков отлично сохранившихся писем, будто вчера полученных и прочитанных. Все-таки, первый раз я прикоснулась к ним с некоторой опаской: «старшим» – семьдесят пять лет, «младшим» – семьдесят, вдруг сейчас рассыплются в прах? Ничего подобного. Поразительно добротная бумага, ясно видимые чернила, четкие буквы… Я тотчас узнала почерки моих дедушки и бабушки, родителей мамы, – быстрой кровной памятью: беззаботной школьницей переписывалась с обоими из Ленинграда… В те годы сразу по буквам на конверте понимала, чьей рукой написано письмо, – хотя послания всегда были, конечно, их совместными… А эти треугольники дедушка когда-то слал бабушке из Красной Армии, а она ему – из эвакуации и, позже, из Москвы. Руки мои, наконец, задрожали – и по мере того, как я все яснее осознавала, что именно держу, трепет все усиливался – так что пришлось опустить письма обратно в чемодан: они будто стали тяжелыми. Как золото.
Читать дальше