– Это все она, Софья, чтоб ей пусто было. Прикажите развязать меня, Андрей Иванович, рук уже не чувствую, все скажу.
По сигналу Ушакова экзекутор Кузьма ловко отвязал Синявского, и вместе с Шешковским они усадили его на стул с ровной спинкой.
– Плечи болят, – пожаловался Антон, – думал, жилы лопнут.
Повинуясь порыву сострадания, Шешковский принялся растирать плечи приятеля. Сам видел, как после полноценного допроса на дыбе люди с неделю руками не владели, но сейчас другое дело. Судя по количеству полос на рубахе, Синявского недолго пороли, потом дали вылежаться на полу и снова подвесили, а впрочем, у тех горемык руки висели вдоль туловища, точно плети, а Антоха сразу же прижал их к груди, вот и теперь кисти разминает. Не больно-то ловко получается, но уже видно, на горшок сам будет ходить, не придется добрых людей просить веревку на портках развязывать, впрочем, это если он теперь все ироду Ушакову выложит, а не станет запираться, навлекая на свою многострадальную спину новых неприятностей.
– Ну, отдохнул малехо? А теперь излагай. Но смотри, Антон, то, что ты под моим началом служил, не смягчает твоей вины, а наоборот, утяжеляет соделанное. Так что если ты сызнова начнешь ломаться, как красна девица, пеняй на себя, ибо о твоих преступлениях я уже все знаю и теперь только желаю услышать все из твоих собственных уст. Вдруг какая новая подробность, полезная делу, мелькнет.
– Да понял я уже, – Синявский попытался отмахнуться от начальника, но правая рука отказалась повиноваться. – С Софьей Шакловитой я познакомился лет пятнадцать назад. Любились, конечно. Потом Софья заявила, будто бы брюхата, а я, молодо-зелено, не поверил. Шакловитая – видная барышня, тем более при дворе служит, говорили, будто бы она с Лестоком того… ну… Да где это видано, чтобы лейб-медик цесаревны простую вышивальщицу пользовал?! Стало быть, прав я был, было у них что-то. А раз так, отчего же я чужой грех прикрывать должен? Она даже с ним советовалась, как бы плод вытравить, но поздно уже было, тот отговорил, обещал помочь с родами, услал ее по каким-то своим делам, а когда родила, обратно вернул. Дочка ее тут же в столице при ней находилась, я ее видел. После того, как я отказался жениться, мы года два не встречались. Даже забывать стал, а потом снова друг друга увидали, и пошло-поехало. Вот тогда я и предложил ей руку и сердце, и дочь бы признал, какая разница, моя она или медикуса этого французского. Но тут ее как раз замуж и выдали.
– Замуж – это позже, – Ушаков протянул Шешковскому свою чашку с уже остывшим чаем, и тот поднес ее к губам Синявского.
– Ну да. На беду мою, в ту пору во дворце произошла покража, а Софья заболела…
– Если бы знал, что у тебя там зазноба, точно бы не поручил с кражей разбираться. – Ушаков склонился в сторону допрашиваемого.
– Работая по этому делу, я то и дело бегал в дом, где Софью мою держали, и понял простую вещь. Моя любезная только вначале была больной, ну или казалась таковой. Тогда как на самом деле ничего определенного у нее не болело, и она очень быстро оклемалась. Я ж как жених к ней сразу же допущен был, гостинцы почитай каждый день носил и ей, и доченьке, все видел, слышал. Тогда я подумал, отчего ее взаперти держат? Да так, что даже вам, Андрей Иванович, вход заказан. Вы ведь только, когда я там был раза три, пытались проникнуть, а вам говорили, мол, зараза.
– Так ты там был? Каналья!
– Был, – вздохнул Синявский, неловко прижимая левой рукой кружку с напитком.
– Вот обормот! – Ушаков горько усмехнулся. – Да если бы ты тогда хоть словом…
– Каюсь, но я же как лучше хотел. Как бы я мог вам признаться, когда мы не венчаны, не помолвлены? Да еще и девка незнамо чья, от горшка два вершка. Вы бы меня тут же приказали выпороть, и Софье досталось на орехи. А потом она хотела вернуться, но ее обратно не приняли. Лесток ее лично осматривал и никакой болезни не нашел, но Софью все равно уже ко двору не допустили.
– Лесток участвовал в краже?
– Не могу знать. Но уже то, что заявился лично, а не прислал кого… впрочем, тогда я думал, что он ее давний любовник и теперь грехи замаливает.
– А теперь, стало быть, ты так не считаешь? – встрял в разговор Шешковский.
– Теперь она мне дочь нашу с ней показала. Совсем барышня. Грех на мне страшный, Андрей Иванович, я ведь на эту пигалицу смотрел, когда она еще под стол пешком ходила, и ничего не почувствовал. А вот теперь стоит кобылица – крупная, широкая, грудастая, а личико… один в один матушка моя, вот только волосы у нее не светлые, а темные, как у Софьюшки. Получается, что я от родного ребенка отказался, что при живом отце воспитывалась моя Феклуша точно сиротинушка горемычная. Новый муж Шакловитой ребенка признать отказался, тетушка, в доме которой девочку оставили, померла. Так что скиталась моя кровинушка, страшно подумать…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
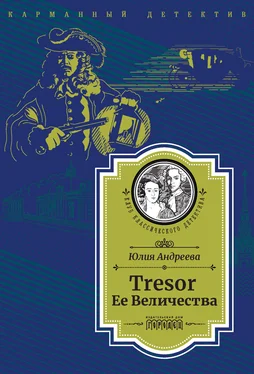








![Герман Макнили - Бульдог Драммонд (следствие ведет Хью Драммонд) [litres]](/books/432469/german-maknili-buldog-drammond-sledstvie-vedet-h-thumb.webp)


