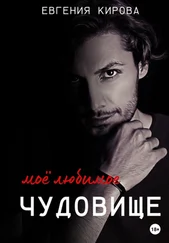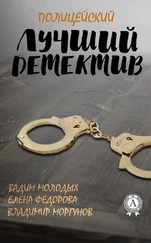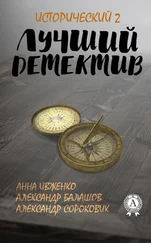Банни так никогда не узнает (а вместе с ним не получит однозначного ответа и «рядовой» читатель, хотя самые проницательные могут сделать соответствующие выводы), что, видимо, в этот момент или даже ранее жемчужина была подменена. Так что «королю людоедов» будет вручена фальшивка, это вскоре раскроется — и поставит в неловкое положение германского императора, тогда как Англия избежит международного унижения. Дело в том, что, судя по некоторым намекам, частично раскрывающимся в более поздних циклах, Раффлз в данном случае негласно работал на британское правительство — и они с инспектором Маккензи разыграли эту сцену на пару, как союзники. Довериться при этом Мандерсу было нельзя: он мог по наивности испортить всю игру.
Нет, Раффлз не погибнет (правда, остается только догадываться, сам ли он доплыл до берега или где-то на полпути его ожидала лодка, о чем следователь Маккензи сумел сообщить ему втайне от Мандерса). А Банни, хотя здесь он говорит о «долгом заключении», получит на удивление мягкий срок — и вскоре они снова встретятся с Раффлзом. Но эти истории описаны уже в других циклах Хорнунга…
Вообще говоря, будуар — «дамская», и при этом интимная, часть богатого жилища: если с ним сравнивается комната-кабинет в мужской квартире, то это значит, что обитатель такой квартиры тяготеет к утонченной роскоши, а сама эта комната заставлена богатыми ширмами и кроватями с шелковым балахоном, завешена гардинами и т. п. Словом, в ней легко «потеряться», остаться незамеченным.
«Ведь зло переживет людей, добро же погребают вместе с ними» (Шекспир, «Юлий Цезарь», акт III): цитата действительно «слегка переиначена» — с заменой смысла на диаметрально противоположный.
Суть иронии заключается в том, что это — первые строки (цитируемые нами в переводе на русский К. Градова) из эпитафии, составленной Байроном на смерть… его любимой собаки, ньюфаунленда по кличке Ботсвана. Причем поэтический текст на надгробье предваряется следующими словами: «Здесь погребены останки того, кто обладал Красотой без Тщеславия, Силой без Дерзости, Храбростью без Свирепости — и всеми достоинствами человека без его недостатков».
Для Джека Лондона 1897 г. (время написания этого рассказа) тысяча долларов оставалась как бы «непроизносимой величиной»: в его кругах на тысячи не считали, самое большее — на сотни, причем это тоже была весьма значительная сумма. Сколько он получил именно за этот рассказ — неизвестно, но за заметно более крупные тексты, публиковавшиеся в ведущих журналах, молодому и еще не знаменитому Джеку тогда платили по 30–50 долларов. А бостонский журнал «The Owl», где увидело свет данное произведение, в эти годы несколько раз учреждал для наиболее ценных своих авторов особые 100-долларовые премии, но… Джек Лондон ни разу в число таких авторов не вошел (а те, кто вошел, совершенно не оставили следа в истории литературы).
Упоминание его отдельно от помощника Эдисона вызывает определенное недоумение: фонограф (первый из практически пригодных звукозаписывающих аппаратов) совсем недавно был сконструирован знаменитым изобретателем Эдисоном — и в те годы просто не существовало видных специалистов по фонографам, работающих где-либо еще, кроме фирмы Эдисона. Вероятно, для Джека Лондона эти «новые технологии» на тот момент были чем-то слишком дорогим и недоступным, чтобы вникать во все подробности.
Вакуумная трубка, изобретенная сэром Уильямом Круксом для исследования электрических разрядов при низких давлениях. В конце XIX в. использовалась в экспериментах для демонстрации существования электронов, а также в практических целях: как источник рентгеновских лучей. Но в данном случае возникает еще одна ассоциация: Крукс, действительно выдающийся ученый, одновременно был человеком благородной доверчивости — поэтому он на каком-то этапе попался в ловушку сторонников спиритизма, безоговорочно поверил им и начал пропагандировать реальность «голосов с того света».
Оптический прибор для показа движущихся картинок, изобретенный все тем же Эдисоном. В сочетании с фонографом представлял собой «персональный кинозал на одного зрителя» (смотреть надо было не на экран, а в стеклянный глазок, слушать — через наушники). Одна из ранних и, как оказалось, тупиковых попыток создать нечто вроде кинематографа.
Читать дальше
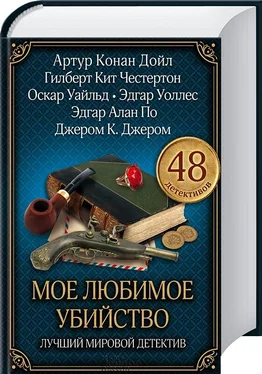
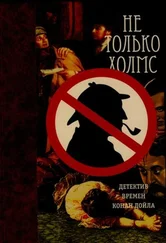
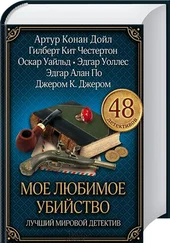
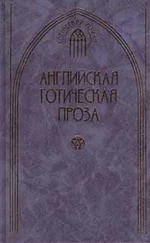

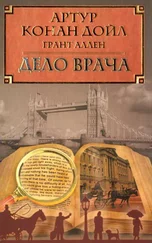
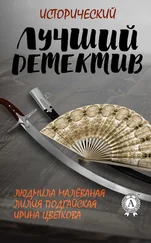
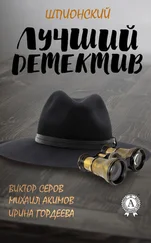
![Валентина Езерская - Мое любимое привидение [СИ]](/books/420682/valentina-ezerskaya-moe-lyubimoe-prividenie-si-thumb.webp)