Он поднялся и сделал шаг к ее двери. И тут же до мельчайших подробностей припомнил сегодняшний послеобеденный сон, когда ему пригрезилось, что он у Флоры Воспер. Им овладело то же упрямое нежелание сделать хотя бы шаг и то же чувство безысходной обреченности, толкавшее его вперед.
Дрожь в руках была так сильна, что он удивился бесшумности, с какой повернул ручку. И толкнул дверь.
Перл действительно заснула, но не забыла потушить свет. Она заснула, забыв выключить электрический камин, и мягкий розовый сумрак заполнил комнату. Пусть недостаточно яркий, но позволяющий без труда разглядеть все детали. Пряди светлых волос разметались по подушке и перемешались с черными волосами молодого мужчины, спавшего рядом. Одна ее рука была откинута в сторону, а груди почти обнажены. Мужчина лежал, повернувшись к ней лицом, и можно было догадаться, что его рука лежит на ее теле. Их дыхание было едва слышным. Они уснули, явно усталые после любви.
Энджелл не в силах был сдвинуться с места, ему казалось, что он останется тут до их пробуждения, обратившись в некий сталагмит ужаса, ненависти и страшного потрясения. Но по прошествии нескольких минут, показавшихся ему вечностью, он попятился назад, затворил за собой дверь и осторожно отпустил ручку.
В его спальне было темно, но слабый свет проникал снаружи, и он беспрепятственно добрался до туалетного столика. Там он зажег лампу и в зеркале увидел отражение тучного, растрепанного пожилого человека с посеревшим лицом, в котором он с трудом признал самого себя. Он попытался сдерживать дыхание, опасаясь разбудить спящих в соседней комнате. Опустившись на стул, он обхватил голову руками.
Так он просидел еще какое-то время; шум заводимого мотора нарушил тишину улицы, потом он услыхал, как машина тронулась, и вскоре звук замер вдали. Энджелл встал, подошел к сейфу, открыл его — у него по-прежнему дрожали руки. Он вытащил тот предмет, который заметил в первый раз, — Смит и Вессон сорок пятого калибра, найденный им в Мерса-Матрух более четверти века назад. Тогда же он нашел и две пачки патронов в серой фабричной бумажной упаковке, которые тоже сохранил. Дрожащими пальцами он разорвал один из пакетов, открыл барабан и вложил в гнезда шесть патронов. Затем вытащил из дула кусок промасленной тряпки и поставил револьвер на предохранитель.
И тут он увидел свое отражение в другом зеркале — прекрасном зеркале наполеоновской эпохи в замысловатой раме, украшенной наверху позолоченными орлами. Он увидел себя и понял, что все его действия были никак не согласованы с реальностью. Своего рода безнадежной попыткой сохранить хотя бы остатки достоинства, как происходит с человеком, разбившим драгоценную вазу, который берется собирать осколки, теша себя иллюзией, будто расколотую вещь можно склеить. Ведь он-то наверняка знал, что ему не хватит мужества направить револьвер — даже если он и не заржавел — ни против них, ни против себя. Уж во всяком случае — против себя. Помимо разъедающей горечи измены, главное, что он испытывал в данный момент, был страх, страх, что Годфри проснется и обнаружит его присутствие. Он знал, что профессиональный боксер Годфри, с голыми руками, был во сто раз опаснее его, Энджелла, размахивающего старым револьвером.
Кроме того, полученное им воспитание не позволяло сделать опрометчивый шаг и оправдывало его малодушие. Прежде всего необходимо время, нужно все обдумать, взвесить последствия обнаруженного и решить, какие дальше предпринять шаги.
Он осторожно завернул револьвер в тряпку и спрятал назад в сейф, вытащил оттуда портфель, запер сейф и положил ключи в карман. Затем оглядел комнату. Никаких следов его пребывания, за исключением домашних туфель у кровати. Он поднял их и на цыпочках направился к двери, выключил свет и осторожно спустился по лестнице. Внизу он взял чемодан, пальто и бесшумно покинул дом.
Он провел ночь в гостинице Кадоган. Примерно около пяти заснул беспокойным сном, но к восьми уже бодрствовал. Он позвонил, чтобы ему подали завтрак и газету, но обнаружил, что читать не может. Он съел завтрак — яичницу из двух яиц с четырьмя кусочками бекона, четыре тоста с апельсиновым вареньем и кофе со сливками. Временами все его огромное тело сотрясалось от приступов бешеного гнева, но всякий раз дело оканчивалось ничем; он был горой, не способной родить даже мышь. Даже плакать он не мог. Слезы, как кровопускание, могли бы облегчить его страдания, но их не было.
Читать дальше
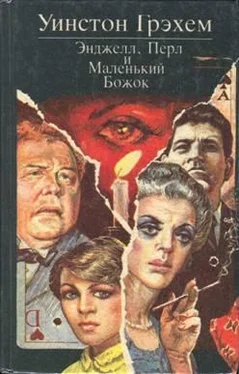





![Уинстон Грэхем - Демельза [litres]](/books/412341/uinston-grehem-demelza-litres-thumb.webp)

![Уинстон Грэхем - Погнутая сабля [The Twisted Sword]](/books/417222/uinston-grehem-pognutaya-sablya-the-twisted-sword-thumb.webp)



