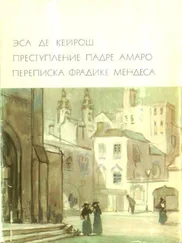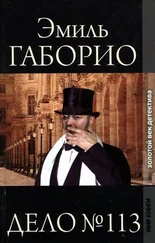Глаза папаши Планта вдруг вспыхнули, он приоткрыл рот, словно намереваясь что-то сказать, но смолчал. И только доктор, внимательно наблюдавший за ним, заметил, как на миг изменилось выражение его лица.
— Мне остается лишь узнать, как жили новобрачные, — произнес г-н Домини.
Г-н Куртуа решил, что для поддержания своего престижа он должен опередить папашу Планта.
— Вы спрашиваете, как жили новобрачные? — перебил он. — Они жили в полном согласии, и у меня в коммуне никто не знает этого лучше, чем я, который был задушевным… самым близким другом. Память о несчастном Соврези была теми узами счастья, что соединяли их. И если они меня так любили, то лишь потому, что я часто говорил с ними о Соврези. Ни единая тучка не омрачала их отношений. Наш дорогой, незабвенный граф — я по-дружески звал его Эктором — относился к жене с изысканной заботливостью, как к возлюбленной, а ведь супруги — я не боюсь так говорить, — как правило, слишком быстро отвыкают от этого.
— А графиня? — поинтересовался папаша Планта, и голос его звучал так невинно, что за этим явно скрывалась насмешка.
— Берта? — воскликнул мэр. — Она была не против, чтобы я по-отечески называл ее по имени. О, я много раз ставил ее в пример и образец госпоже Куртуа! Да, Берта была достойна и Соврези, и Эктора, этих самых достойных людей, каких я знал в жизни! — Заметив, что его восторг несколько изумляет слушателей, почтенный мэр чуть сбавил тон. — Я должен кое-что объяснить и ничуть не сомневаюсь, что могу это сделать перед людьми, чья профессия, а главное, характер служат гарантией соблюдения тайны. Соврези очень помог мне, когда… я вынужден был согласиться стать мэром. Ну а Эктор… я знал, что он порвал с заблуждениями юности, и когда заметил, что он неравнодушен к моей старшей дочери Лоранс, то с радостью думал об этом браке, не зазорном для обеих сторон: граф де Треморель был аристократ, а я давал за дочерью более чем приличное приданое, достаточное, чтобы любой потускневший герб вновь засверкал золотом. Однако события воспрепятствовали моим планам.
Мэр еще долго возглашал бы хвалы «супругам Треморель», а заодно и себе, если бы слово не взял судебный следователь.
— Ну вот, — сказал он, — я все записал, хотя мне кажется…
Его прервал громкий шум в вестибюле. Похоже, там шла борьба: в гостиную доносились крики и брань. Все вскочили.
— Я знаю, в чем дело! — воскликнул мэр. — Я догадался! Нашли тело графа.
Почтенный мэр ошибся.
Дверь гостиной распахнулась, на пороге показался тщедушный человек, в которого вцепился справа жандарм, а слева слуга, и этот человек сопротивлялся им с такой яростью и силой, каких трудно было от него ожидать.
Борьба, очевидно, длилась уже довольно долго, поскольку его одежда была в самом плачевном состоянии: новый сюртук разорван, на шее болтались лохмотья галстука, запонка воротничка вырвана с мясом, сквозь разорванную сорочку видна была голая грудь. Шляпу он потерял, и его длинные черные волосы в беспорядке падали на искаженное страхом лицо.
Из вестибюля и со двора доносились голоса прислуги и более чем сотни зевак, которые, узнав о преступлении, столпились у ворот, горя желанием что-нибудь разузнать, а главное, увидеть. И вся эта толпа кричала:
— Это он! Гепен! Смерть убийце!
А бедняга, охваченный смертельным ужасом, продолжал сопротивляться и хрипел:
— Помогите! Оставьте меня, я ни в чем не виноват!
При этом он уперся в дверь, и протолкнуть его не было никакой возможности.
— Да нажмите на него! Толкайте! — командовал мэр при нарастающем ожесточении толпы.
Однако отдать приказ оказалось куда проще, чем исполнить. Страх придал Гепену нечеловеческую силу.
Но тут доктору пришла мысль открыть вторую створку дверей, и Гепен упал или, верней сказать, рухнул перед самым столом, за которым вел записи судебный следователь.
Гепен тут же вскочил, ища взглядом, куда бежать. Увы, бежать было некуда: и в окнах, и в дверях торчали любопытные. Тогда он опустился на стул.
Несчастный являл собой олицетворение крайнего ужаса. На мертвенно-бледном лице выделялись синяки, полученные при сопротивлении, побелевшие губы тряслись, он все время судорожно сглатывал слюну, пытаясь увлажнить пересохший рот. Тело сотрясала конвульсивная дрожь, а в странно округлившихся, налитых кровью глазах читалось безумие.
Вид его был настолько страшен, что мэр решил преподать собравшимся урок высокой нравственности: обратясь к толпе, он указал на Гепена и трагическим голосом возвестил:
Читать дальше