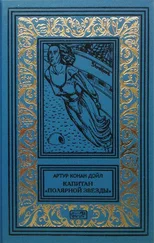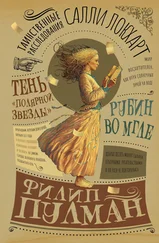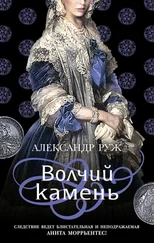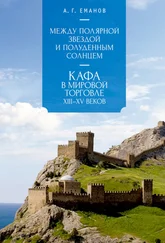– Это р-разве про нэпманов написано? – замечал Вадим, успевший проштудировать в читальне сборники главного пролетарского поэта.
– Про них тоже. Мы, братишка, всю нечисть из страны выметем подчистую, дай срок! Пойдут они у нас в Нерчинск ежиков пасти. И наступит такая благодать, что ангелов в раю затошнит…
Справедливости ради следует сказать, что угар новой экономической политики не всегда вызывал у Чубатюка праведную ненависть. Любил Макар на досуге гульнуть в ресторанах, которых в Москве развелось, что пивных в Германии. Исполнив служебные поручения и загнав машину в гараж, он шел домой, в общежитие-коммуну, доставал из рундука местами вытертый фрак (не иначе реквизированный в революционной горячке у какого-нибудь буржуя), напяливал его на свои широченные плечи и заваливался в «Хромого Джо», или в «Сверчка на печи», или в другое подобное заведение. Его особенным обожанием пользовался ресторан на площади Свердлова. Здесь, в роскошном купеческом особняке, еще в прошлом веке стараниями приказчика Тестова открылся трактир, который весьма скоро приобрел популярность у заезжих помещиков, а затем и у особ более высокого полета. Если верить Гиляровскому, петербургская знать во главе с великими князьями специально приезжала из Петербурга отведать фирменного молочного поросенка, жаренного на огне, раковый суп с расстегаями и гурьевскую кашу. У Тестова сиживали Достоевский и Шаляпин, Рахманинов и Чехов.
В начале нового века трактир торжественно переименовали в ресторан и подвергли кардинальной реконструкции. Как писал тот же дядя Гиляй, переделали даже стены. В зеркальном окне вестибюля красовалась декадентская картина, а в большом столовом зале появилась модернистская мебель. Это отвратило от заведения купцов-ретроградов, зато привлекло представителей зародившегося бунтарского поколения. Закрытый в 17-м ресторан возродился еще до окончания Гражданской. Сюда-то и предпочитал заходить расфранченный Чубатюк, ценивший русскую кухню выше всяких там французских и итальянских.
Вадим иногда присоединялся к нему, пил старку, жевал поросячью ногу, слушал в исполнении размалеванных певичек «Бублички» и «Лимончики», но не чувствовал себя в этом гнезде великорусского разгула так же уютно, как Макар, то и дело щипавший официанток пониже поясницы, с оглушительным треском хлопавший в ладоши и басивший во всю мощь своих богатырских легких:
– В жопу «Лимончики», «Марсельезу» вжарьте!
Еще одним его пристрастием был кинематограф. У Чубатюка действовало выверенное расписание: по будням он ходил в «Гранд-плезир» и «Великан», а по праздникам – исключительно в «Художественный» на Арбатской площади. Этот старейший в столице кинотеатр сам по себе считался произведением искусства: фасад в стиле античной классики, мраморные колонны, ажурные люстры в фойе, зрительный зал, оборудованный на манер театрального – с партером, балконами и ложами. Смотрел Макар все подряд: американского «Всадника без головы», французское «Эльдорадо», турецкую «Огненную рубашку», отечественных «Красных дьяволят». Смеялся над Чарли Чаплином в «Малыше», покрывался испариной при виде Макса Шрека в фильме ужасов «Носферату» и облизывался, глядя на Мэри Пикфорд в «Двух претендентах».
Кинематографические походы пришлись Вадиму по душе, он охотно сопровождал Макара, но по прошествии полутора недель утомился. Наскучило мелькание бессловесных теней под пошловатые наигрыши тапера. Да и не обогащало это ни душу, ни ум. Наивные мелодрамки, тупые комедии, бессмысленные боевики… Вадим горел желанием узнать побольше не о выдуманной, а о реальной жизни, поэтому все чаще стал отказываться от Макаровых приглашений и просиживал вечера в библиотеках, листал подшивки газет и журналов, обогащался актуальными сведениями и постепенно приноравливался к существованию в обновленной России.
Так продолжалось до конца сентября, но однажды, после окончания рабочего дня, который Вадим провел за сортировкой старых бумаг, скопившихся в сейфах, Барченко сделал таинственное лицо и вполголоса промолвил:
– Попрошу вас, Вадим Сергеевич, сегодня задержаться. Хочу вам кое-что показать.
Заинтригованный Вадим последовал за ним в компактный зальчик, расположенный, как и другие кабинеты особой группы, не в гэпэушном комплексе на Лубянке, а в здании Главнауки. Александр Васильевич хоть и состоял в чекистском ведомстве, но использовал любую возможность подчеркнуть, что он – не филер со шпалером, а вольный мыслитель. Оттого и перебрался поближе к ученым мужам. Здесь ему было удобнее во всех отношениях: не роились перед глазами кожаные, волокшие арестантов со скрученными руками, почти не слышалось матюгов, зато в его распоряжении находились справочные фонды, лаборатории и демонстрационная с киноустановкой.
Читать дальше



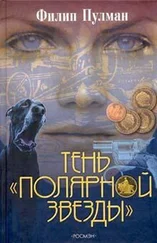
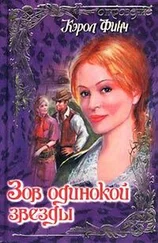
![Александр Руж - Зов Полярной звезды [litres]](/books/386278/aleksandr-ruzh-zov-polyarnoj-zvezdy-litres-thumb.webp)