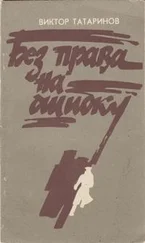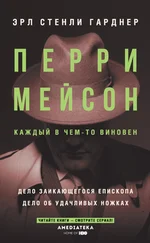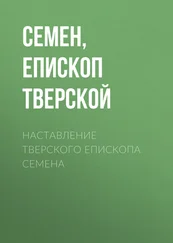Архип любил всякую животину, а по конской части был прозван профессором. Он безошибочно определял породы лошадей, их болезни, угадывал, чем их лечить. Когда пришла пора идти Архипу на германскую войну, отец, зная любовь сына к лошадям, отдал ему единственного в хозяйстве гнедого жеребца, главное состояние всего их семейства, и стершуюся подкову — на счастье.
— Поезжай, Архипушка, воюй по-русски, чтоб фамилии моей не посрамить! — наказывал он,
В первом же бою коня под Архипом убило, а чтобы приобрести нового, так и не хватило силенок ни пока служил, ни после. Пришлось ему из кавалерии уйти в пехоту. Пять лет таскался он по кровавым дорогам германской и гражданской войн, а когда вернулся, не застал в живых ни матери, ни отца. Ждала его только верная жена Пелагеюшка, которая проглядела все окна, мужа-надежу выглядывая, проплакала все глаза, солдата дожидаючи. Другие из оставшихся в живых односельчане давно уже вернулись с войны, а ее-то Архипушка все не шел и не шел. Однако Пелагея и мысли не допускала, что ждать — лишь сердце тешить напрасно, ждала и ждала. Дождалась таки, явился ее муж разъединственный. Ох и поплакала она с радости. Потом рассказала, что отец его, умирая, строго-настрого наказывал, чтобы сын Архип, коли вернется, коли выпадет ему это на долю, непременно жил в родном селе.
— Пусть хоть один из рода Кузьминых выйдет в люди при советской власти, как знаток по лошадиному делу. Пусть хоть он не отрывается от родимой земли. Архип, вернувшись с войны, по старому обычаю врезал в порог покосившейся избенки подкову на счастье, ту самую, которую отец дал ему перед отправкой на войну. Перебивался с гроша на копейку, но родного села не покинул.
Пегашка виновато отворачивала морду от хозяина, напрягая оставшиеся силенки, протащила кошовку еще несколько шагов и снова остановилась, навалившись боком на оглоблю. И тут не выдержали — лопнули завертки, кошовка [4] Кошовка — одноместные небольшие сани на одного человека с небольшим грузом. В кошовку запрягалась одна лошадь. — прим. Гриня
отделилась от сбруи.
— Эх-ма! — с досадой протянул Архип, теребя бородку. — Видать, не судьба нам выбраться, парень. Застряли, ни взад, ни вперед.
Васе было уже все безразлично. Он сидел не шевелясь, словно неживой. Продрогший до костей, то впадал в забытье, ничего не видя широко открытыми глазами, то ощущал над собой огромное яркое солнце, которое пронизывало всю снежную толщу и высвечивало в его сознании пестрые картинки недавнего прошлого. Вот он с отцом идет в лес за грибами. Их собака Динка отыскала какого-то зверька и гоняется за ним, неистово облаивая, он отчетливо слышит ее охрипший лай. Потом все ненадолго стихло, даже ветер будто угомонился. Вот снова залаяла Динка, но на этот раз совсем по-иному, необычно. Призывая хозяина на помощь, она сидит перед колючим клубком и боязливо держит над ним лапу, не решаясь прикоснуться. Ежа они с отцом принесли домой, Вася кормил его молоком. Ежик всем на удивление сразу же подружился с кошкой, спал с ней в одном углу, на старой Васиной фуфайке… Весна… Отец с Васей сдирают кору с березы, делают бураки [5] Бурак — здесь — туес, сосуд из бересты цилиндрической формы. — прим. Гриня
, потом собирают в них березовый сок. Отец учит Васю плести лапти. Из семи‒девяти липовых лык в ловких отцовских руках, как в сказке, получается аккуратная обувь, отливающая солнечной желтизной и пахнущая лесом, Просто чудо, как интересно! Часами сидят они с отцом вдвоем, и никто им не мешает. Вот он надел купленную отцом косоворотку, прилаживает к лаптям деревянные колодки, а мать достала из сундука новые онучи. Васиной радости нет конца, он одет с иголочки. В ненастную осень идет в школу, как на высоких каблуках, и, боясь замарать обновку, в грязь ступает осторожно, стараясь не разбрызгивать.
Живут они в большом селе. Отец уже не работает в школе, он организует коммуну. В больших котлах на берегу реки коммунары варят обед, а мальчишки подбрасывают хворост в костер, таская его наперегонки из леса. С поля доносится песня. Весело, дружно живут люди, объединившиеся в одну семью. Вася хорошо запомнил, как они приехали в Костряки. Ни отец, ни мать не знали удмуртского языка, а ученики в первое время смотрели на Федора Романовича не столько как на учителя, сколько как на волшебника, чудодея, произносящего непонятные слова. Вася сразу сошелся с мальчишками и быстро стал понимать их мягкий, напевный говор, а потом с гордостью ходил в школу, помогая отцу в разговорах с учениками.
Читать дальше
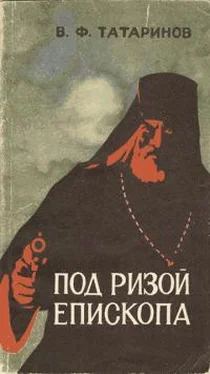
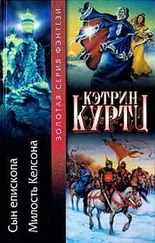

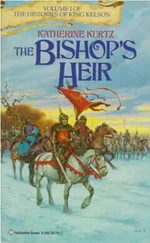
![Стивен Ван Дайн - Злой гений Нью-Йорка [Дело Епископа]](/books/345560/stiven-van-dajn-zloj-genij-nyu-thumb.webp)