Он не может найти ответ на этот вопрос. Силлогизм, не предполагающий доступного пониманию вывода.
Время коварно положило палец на весы жизни, и вскоре он потерял счет дням. Безразлично оглядывает предназначенный ему смехотворный осколок огромного мира и осознает в конце концов: один из непрерывно бормочущих голосов — его собственный. Сколько это продолжается, он не знает. На третьи, а может быть, сотые, а может, и тысячные сутки он замечает углом глаза необычное движение, нарушающее привычную неподвижность камеры. Внезапную, доселе не замечаемую игру света в мире застывших теней. Он поворачивает голову, и на глаза его наворачиваются слезы.
— Сесил?
Они прошли через мост, пересекли Норрмальм, где мороз вяло и неритмично, как нерадивый ученик, играет на ксилофоне потрескивающих на разные лады бревенчатых срубов. Окна закрыты и трижды проконопачены, чтобы лучше защитить от холода теснящихся у очага обитателей. Болотистые берега до поры до времени скованы льдом, спельбумская мельница неохотно отмахивается от снежных хлопьев. За густой вуалью снега почти ничего не видно, да прохожие и не торопятся поднять глаза на необычную пару. Ничего необычного: помятый, наверняка с похмелья, пальт ведет в каталажку пойманного воришку или сутенера. Единственно, что могло бы вызвать подозрение, — направление. Ну и что? Может, заблудились: метет так, что в двух шагах ничего не видно, а сугробы изменили привычный ландшафт до неузнаваемости.
В Руслагене — ни одного таможенника. Кардель заглянул в окно: как и думал, сидят, скрючившись, у печки. Играют в кости и согревают перегонным органы, недоступные теплу очага. Замерзшие и пьяные, что им за дело до каких-то шальных путников.
Они вошли в лес. Следы за спиной исчезали тут же, будто их стирали ластиком. Остановился и прислушался — а вдруг и в самом деле заплутался, — и тут же услышал певучее журчание родника. Хрустальная вода пробивалась из-под земли с такой силой, что даже оковы льда не могли ее удержать.
Кардель остановился и смахнул снег с упавшего ствола.
— Садись.
Развязал руки, вынул изо рта успевший заледенеть кляп. Сетон растер онемевшие руки, похлопал себя по плечам. Застегнул пуговицы и поднял воротник рубахи — больше ничего на нем не было, видно, вытащили из постели. Подтянул чулки и сел на бревно, скрестив руки на груди.
— И что теперь?
— Посидим немного.
В лесу метель не так заметна, густое переплетение ветвей просеивает и ослабляет заряды снега. Короткий зимний день идет к концу, быстро темнеет — с востока на запад, будто кто-то натягивает на небо толстое одеяло. Сетона начал бить озноб, даже зубы застучали.
— Значит, один остался на арене? Кто бы мог подумать… Но ты даже не представляешь, какое ты мне доставил удовольствие, когда столкнул своего тощего приятеля в ад. Победа, достойная победителя… — Сетон коротко засмеялся. — Но должен признать, инвалид, ты многого достиг. Поначалу я был уверен, что башка у тебя такая же деревянная, как рука. Или даже еще более деревянная, если так можно выразиться.
— Хорошие учителя попались.
— А как с малышкой? Анной Стиной? Сколько я на нее времени потратил… Думаю, и отец так о ней не заботился. Хотя у нее и отца-то не было. Как с ней-то? Я-то не сомневался, что ты даже поприветствуешь жало, которым я ее снабдил, а оказалось, нет… Полагаю, ты просто-напросто свернул ей шею. Или ухватил наконец то, в чем она тебе отказывала.
Кардель достал кисет, сунул в рот щепоть табака, пожевал и выплюнул. Сетон, тщетно пытаясь унять дрожь, обхватил себя руками, время от времени беспокойно поглядывая на сгущающиеся сумерки.
— Извини… Поговорим о другом. О временах? Регентство идет к концу, скоро Швеция получит нового короля.
— Может, будет получше прежнего.
— Ты так думаешь?
Кардель пожал плечами:
— Мальчик на себе испытал, во что обходится война. Кусок металла из грязного ствола — и отец его, промучившись пару недель антоновым огнем, сошел в могилу. Ему еще и четырнадцати не было. Думаю, лучших причин для миролюбия и придумать трудно.
Сетон коротко и невесело засмеялся.
— Сам Жан Жак онемел бы, ознакомившись с твоими взглядами на воспитание. Оказывается, ничто так не подвигает к миролюбию, как коварное убийство отца. Наверняка мальчик испытывает к убийцам горячую благодарность, а о мести даже думать боится. Так, что ли? Что ж… еще раз извини. Я опять зубоскалю. Да… век, как видишь, идет к концу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
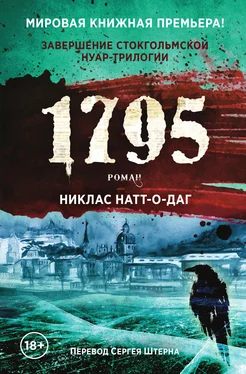


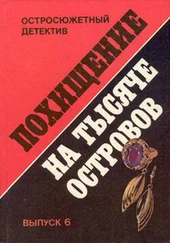


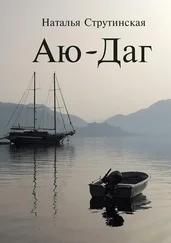
![Никлас Натт-о-Даг - 1793. История одного убийства [litres]](/books/423344/niklas-natt-o-thumb.webp)




