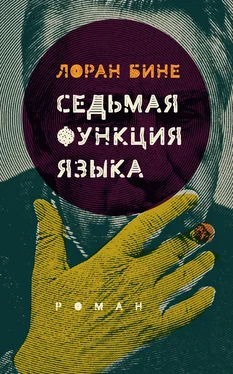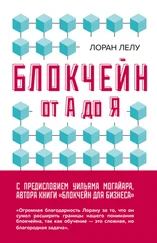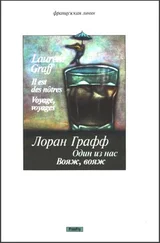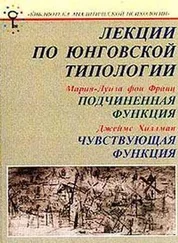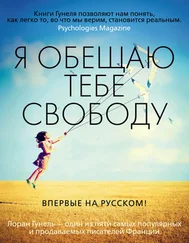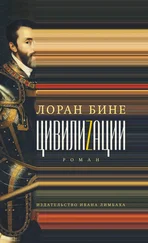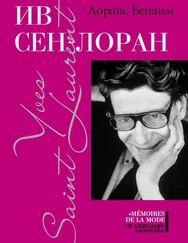Следовательно, она проявилась постепенно, а глагольная форма утратилась, я бы сказал, где-то на исходе XVI столетия.
Allora, вопрос, который я бы обсудил, если бы мой уважаемый соперник его коснулся, звучал бы так: тихое исступание – это оксюморон? Противоречат ли друг другу соединенные здесь понятия?
Нет, если рассматривать истинную этимологию исступания .
Si, если учитывать этимологическую коннотацию неистовства.
Si, ma [487] Да, но… ( ит .)
… разве тихое и то, что несет в себе силу , мощь, всегда противопоставлены? Мощь может быть тихой – скажем, когда нас плавно несет течение реки или мы осторожно пожимаем руку любимой…»
Певучий голос эхом разносится по большому залу, но беспощадность ответа видна всем: несмотря на внешнее благодушие, Эко только что невозмутимо подчеркнул всю скудость речи Соллерса и сам воспроизвел дискуссию, которую тот так и не сумел начать.
«Но все это не сообщает нам, что имеется в виду.
Я поступлю скромнее, чем мой соперник, опробовавший весьма смелые и, уж простите, несколько сумасбродные трактовки. Если позволите, я просто попытаюсь объяснить: в тихом исступании пребывает поэт. Речь идет о furor poeticus [488] Поэтическое исступление ( лат .).
. Точно не помню, кто сказал эту фразу, ma предполагаю, что это был французский поэт XVI века, ученик Жана Дора [489] Жан Дора, настоящее имя Жан Динеманди (Jean Dorat, Jean Dinemandi, 1508–1588) – французский поэт, входивший в «Плеяду».
, участник „Плеяды“, ведь в этом явно ощущается влияние неоплатонизма.
Знаете, для Платона поэзия – не искусство, не ремесло, это божественное вдохновение. Бог живет в поэте, это другая его ипостась: вот о чем Сократ толкует Иону в знаменитом диалоге. Поэт безумен, но это безумие тихое, созидательное, не разрушительное.
Я не знаю автора этой строки, но думаю, это мог быть Ронсар или дю Белле, оба они представляют школу, где giustamente [490] Действительно ( ит .).
творили в тихом исступании .
Allora, можно поговорить о божественном вдохновении, вы не против? Я даже не знаю, ведь я толком не понял, о чем хотел вести дискуссию мой уважаемый соперник».
Тишина в зале. Соллерс понимает, что ему передают слово, и на короткий миг замирает в нерешительности.
Симон машинально анализирует подход Эко и определяет его предельно коротко: все наоборот, то есть не так, как у Соллерса. А значит – преисполненный смирения этос и крайняя сдержанность, минимализм в развитии темы. Никаких фантазийных трактовок, только буквальное толкование. Легендарная эрудиция позволяет Эко довольствоваться объяснением без доводов, он словно подчеркивает, что при таком словесном энурезе, как у соперника, дискуссия невозможна. Точность и скромность высвечивают хаос сознания амбициозного собеседника.
Соллерс вновь берет слово, теперь не так уверенно: «Я говорю о философии, потому что дело литературы сегодня – показать, что философский дискурс интегрируется с положением литературного субъекта, лишь бы его опыт достигал трансцендентального горизонта».
Эко не отвечает.
И Соллерс в панике кричит: «Арагон написал обо мне громкую статью! О моем даровании! И Эльза Триоле! Мне кое-что посвящено!»
Сконфуженная тишина.
Один из двух софистов подает знак рукой, и два стража, поставленные у дверей, хватают Соллерса, который ошалело вращает глазами и верещит: «У-тю-тю! О-хо-хо! Нет-нет-нет!»
Байяр спрашивает, почему не голосуют. Старик с клатчем отвечает, что в иных ситуациях единодушие и так не подлежит сомнению.
Стражи укладывают проигравшего на мраморный пол перед трибуной, один из софистов выходит вперед с секатором в руке.
Стражи стягивают с Соллерса брюки, а он вопит прямо под «Раем» Тинторетто. Другие софисты встают с кресел и помогают его усмирить. В суматохе с него спадает маска.
Публика лишь в первых рядах может видеть, что происходит у основания трибуны, но это и так понятно.
Софист с лекарским клювом закладывает мошонку Соллерса между лезвий секатора, обеими руками берется за рукояти и резко сжимает. Готово.
Кристева вздрагивает.
Соллерс издает ни на что не похожий звук, горловое клокотанье, сменяющееся протяжным мяуканьем, которое, отражаясь от полотен мастеров, разносится по всему залу.
Софист с лекарским клювом подбирает оба яичка и прячет их во вторую урну: Симон и Байяр понимают, для чего она предназначалась.
Симон, белее белого, спрашивает у стоящего рядом зрителя: «Обычно на кону палец, разве нет?»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу