Я не комментировал.
— Но это не конец. Павел от пенсии решительно отказывается, продолжает работать в комсомоле, борется с мещанством, с троцкизмом, за чистоту в цехе и за повышение производительности труда, правда, «старые рабочие прямо говорят: на хозяина работали лучше». Почему — невдомёк Павлу, как было ему невдомёк, почему в былое время город снабжался дровами без необходимости лезть в ледяную воду. Не силен Корчагин в экономике. Не говорит Островский напрямую, что герой его совершенно никчёмен, но, сам того не желая, показывает это. Павел же о своей никчёмности не догадывается — он активен на собраниях, пленумах, он уже секретарь райкома, он весь в речах и принципиальной позиции, он продолжает себя улучшать: бросает курить, пытается искоренить матерщину. Однако жизнь творится не на пленумах — этого герой романа так и не уразумел. А потом на Корчагина одна за другой посыплются смертельные болезни: откажут ноги, руки, ослепнет и второй глаз. Стопроцентная нетрудоспособность. Пойдут санатории, один за другим, и не какие-нибудь: «Клумбы роз, искристый перелив фонтана, обвитые виноградом корпуса в саду». Отчего бы и нет? Он переселится из провинции в Москву: «Павел написал в ЦК письмо с просьбой помочь ему остаться жить в Москве… В ответ на его письмо Моссовет дал ему комнату». Как не дать — аппаратчик, номенклатура! Болезнь его подкосила, а то бы дошёл до степеней известных — по партийной линии в ЦК осуждал бы троцкистов и врагов народа, подписывал бы расстрельные и лагерные списки, а если пошёл бы по линии ЧК, то правил бы на Лубянке. Если в ЧК Феликс Эдмундович железный, то почему бы там не поработать и стальному Павлу Андреевичу? Мечту же свою Корчагин раскрывает в беседе с матерью: «Нет, маманя, долго буржуй не продержится. Одна республика станет для всех людей, а вас, старушек да стариков, которые трудящиеся, — в Италию, страна такая тёплая над морем стоит. Поселим вас во дворцах буржуйских, и будете свои старые косточки на солнышке греть. А мы буржуя кончать в Америку поедем». Тут, прямо скажем, мать окажется помудрее сыночка: «Не дожить мне, сынок, до твоей сказки…»
— Да уж, что сказка, то сказка, — кивнул я.
— Но сказка — ложь, да в ней намёк, добрым молодцам, как известно, урок. Что же понял Корчагин в своей жизни? А вот что: «Корчагин обхватил голову руками и тяжело задумался… Решил, что жизнь прожита не так уж плохо. Но было немало и ошибок, сделанных по дури, по молодости». От него осталась ещё одна расхожая цитата: «Самое дорогое у человека — это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь, все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества». Но никто не понял главного — ни он, ни фадеевский Левинсон. Не понял того, что смог понять другой человек, правда, не большевик, а философ Семён Франк. «По замыслу самого утопизма разрушение старого мира должно быть только краткой подготовительной стадией, за которой последует уже чисто созидательное дело построения нового мира. Но старый, исконный мир — мир грешный, неразумный и несовершенный — упорствует в своем бытии, сопротивляется своему разрушению. Это упорство представляется утопизму чем-то непонятным, неожиданным и противоестественным, ибо противоречит его представлению об относительно лёгкой возможности построить новый мир… Старый мир, несмотря на всю свою порочность и дряхлость, на все свое несовершенство, все же имеет некое сверхчеловеческое происхождение — и потому некую для утопизма неожиданную прочность, о которую разбивается всякая чисто человеческая воля. Дело разрушения безнадёжно затягивается, и на этом пути утопизм роковым образом увлекается на путь беспощадного и все более универсального террора. Посвящая все свои силы бесконечной задаче обуздания, подавления, разрушения исконных основ мирового бытия, спасители мира становятся его заклятыми врагами и постепенно попадают под власть своего естественного водителя на этом пути — духа зла, ненависти, презрения к человеку. Богоборческая антропократия роковым образом вырождается в демонократию, которая ведёт не к спасению мира, а к его гибели…» Именно этого никогда не понимали российские хунвейбины, многочисленные левинсоны и корчагины…
— Ну а теперь, — усмехнулся я, — попытайся нарисовать нам портреты Фадеева и Островского по этим романам. Сможешь?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
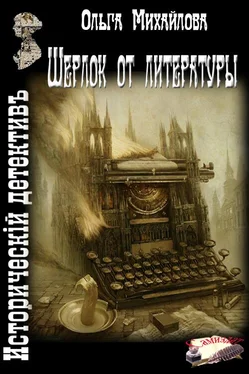
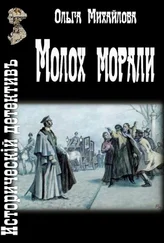






![Ольга Михайлова - Книжник [СИ]](/books/406440/olga-mihajlova-knizhnik-si-thumb.webp)
![Ольга Михайлова - На кладбище Невинных [СИ]](/books/413272/olga-mihajlova-na-kladbiche-nevinnyh-si-thumb.webp)


