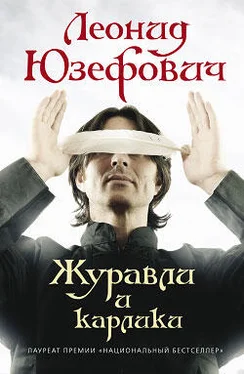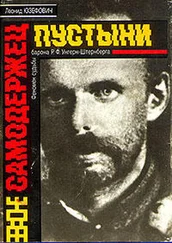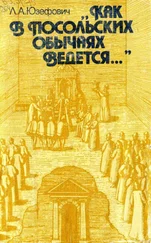Далее цитировалось примечание к этой записи, сделанное Ченином Тыхеевым:
«Рассказывают, что в то время в Эрдене-Дзу проживал один знатный старый орос, князь 2-й степени, сын цаган-хагана Шу-Ки. Он пришел сюда из земли оросов, где его хотели убить за желание принять желтую веру. Святейший Ундур-гэген Дзанабадзар высоко ценил его за мудрость и умение узнавать будущее по звездам. Когда джунгары пришли в Эрдене-Дзу, этот орос явился к Галдан-хану и сказал, что нужно прекратить войну, потому что ее затеяли духи тогру и одой, которые входят в людей и вынуждают их воевать между собой. Галдан-хан прогнал его от себя, тогда он поехал к Тушету-хану и стал говорить ему то же самое, но китайцы убили его, и война продолжалась, пока вся Халха не стала владением императора Канси. Потом святейший Ундур-гэген привез в Эрдене-Дзу землю с могилы этого ороса».
Затем слово брал сам Хангалов.
«В конце XVII в., – писал он, – пути из Сибири в Монголию были хорошо известны, первые казаки появились в Халхе еще в 1616 г. Позднее сюда стали пробираться гонимые раскольники. Этот русский мог быть казаком, служилым человеком, раскольником или беглым ссыльным, а сообщение о его княжеском титуле основано, как можно предположить, на недоразумении. По-видимому, он носил имя Иван, что монголы истолковали как “ван”, то есть князь 2-й степени по маньчжурской иерархии. Вполне объяснимо и утверждение, будто его отцом являлся цаган-хаган – Белый царь, общепринятое в тюрко-монгольском мире наименование российских государей. По нашему мнению, живший при Ундур-гэгене “царевич” был типичным порождением той эпохи, когда самозванчество как характерная для России форма социального протеста стало массовым явлением. Шу-Ки – это, несомненно, Василий Шуйский. Наш герой называл себя его сыном, поэтому гипотеза о том, что его сослали в Сибирь как политического преступника, представляется наиболее вероятной. Что касается войны тогру и одой, т. е. журавлей с маленькими людьми, пигмеями, здесь мы имеем дело с древнейшим мифологическим сюжетом, представленным в фольклоре разных народов, но радикально переработанным в духе буддийского пацифизма. Это еще раз доказывает, что история наших культурных связей уходит корнями…»
Дальше можно было не читать. Шубин оттолкнулся спиной от стены и встал. Потеплело, снег начинал таять. За дальней линией субурганов невидимо тек Орхон, воздух там туманился, сгущенный расстоянием и влажностью. Дальше гряда за грядой поднимались плоские, растущие вширь холмы, на их фоне монастырь казался совсем крохотным. От его красоты щемило сердце, настолько она была неоспоримой и в то же время непрочной, безропотно готовой раствориться в окрестном пейзаже. «Я не знаю, почему он поселился именно в этом месте, но оно того стоило», – справедливо писал Прохор Гулыбин, забайкальский казак на японской службе, прилетавший сюда за другим царевичем.
Шубин обвел взглядом внутристенное пространство. Где-то здесь, в неровном кольце из ста восьми белых тибетских ступ, лежал прах его любимца, привезенный сюда Ундур-гэгеном из ставки Тушету-хана. Там он в последний раз пропел свою песню о журавлях и карликах, ставшую для него лебединой.
Чтобы в Москве ему сохранили жизнь, Анкудинов должен был сказать Никите Романову приблизительно следующее: «Коли король польский или свейская королева, или турский султан и иные государи, будь они папежской веры или люторской, или бусурманской, всей силой пойдут на нашего великого государя со всем своим войском, пешим и конным, то ежели вы – карлики, я среди вас – журавль, дающий вам силу против моих собратий, а ежели природа ваша журавлиная, то я – карлик, и без меня вы все падете, яко назем на пашню и снопы позади жнеца».
Он перебывал католиком, протестантом, мусульманином, иудеем. Его, как вакцину, впрыснули в тело державы, чтобы она переболела легкой формой этих смертельных болезней, грозящих ей с запада и с юга, а потом отправили к монголам, посчитав, что для безопасности с востока нужно привить ему еще и желтую религию.
Шубин с сожалением отмел эту красивую гипотезу. Скорее всего Конюховского выдали за Анкудинова и четвертовали вместо него, потому что никто другой под руку не подвернулся, а Тимошку под чужим именем оставили при Посольском приказе как ценного специалиста со знанием иностранных языков, хорошо знакомого с политической обстановкой в Европе и Азии. Кадровый голод заставил московских дипломатов пойти на этот подлог, но позднее Анкудинов или проштрафился, или просто в его услугах перестали нуждаться. Ему припомнили старое и сослали в Сибирь, оттуда он бежал в Монголию, где пополнил коллекцию принятых им исповеданий еще одним экземпляром.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу