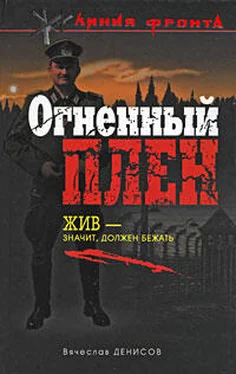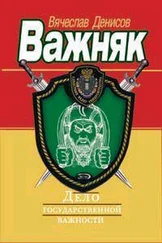— Три рейхсмарки, Курт, что этот плебей не донесет свою ношу!
Пари было заключено. Я покачал головой.
— Нести!
Я сделал шаг и покачнулся. Стопка пришла в движение.
— Я заставлю это животное выполнить приказ! — взревел тот, кого назвали Куртом.
— Интересно, как? — рассмеялся поставивший три марки.
Мимо меня с охапкой досок проходил красноармеец, шея которого торчала из воротника гимнастерки, как карандаш из стакана. Он только что прибыл на войну. Восемнадцать лет, не больше. Наверное, он мечтал приехать во время службы домой с нагрудным значком и пройтись по улице с той, что до поры боялась. А теперь вот он почти висит в жилистой руке немецкого солдата по имени Курт, и такой страх на лице его, что не позавидуешь.
Поставив бойца на колени, Курт сдернул с него пилотку, бросил на землю и занял позицию, при которой ему удобнее всего было бы раскроить череп солдатика тыльной стороной автомата.
— Неси… — глядя мне в глаза, приказал Курт и чуть дернул автоматом.
Сделав шаг, я почувствовал, как напряглись мои жилы в ногах. О мышцах речи уже не шло — им нужен был белок, движение. А последнее время я только и делал, что лежал.
Второй шаг показался мукой.
Я скосил взгляд на красноармейца. Он ничего не понимал, а оглянуться не смел.
Все то время, что шел, я бросал на него взгляды. Я не знал, где еще взять сил. Лишь взгляд его, по-оленьи беззащитный, с поднятыми домиком бровями — господи, ребенок еще совсем, — заставлял меня нести эти чертовы кирпичи.
Я добрался до Мазурина и из последних сил опустился на колени. Он снимал с рук моих кирпичи так быстро, как мог. Уже последний был снят, а я все держал руки, и казалось мне, что я по-прежнему что-то несу.
— Где мои рейхсмарки, Отто?
— Ты провел меня. Но все равно получи.
Я закрыл глаза, но тут же распахнул веки, потому что послышался выстрел.
Дотянувшись до края как зубы великана обломанного парапета, я выглянул и посмотрел вниз.
Красноармеец с простреленным черепом лежал на траве. Ноги его, сложенные одна на другую, изгибались, как для умиротворенного сна. Должен же был Отто получить хоть какую-то компенсацию за три проигранные марки.
Прижав голову к руке, я заплакал…
— Касардин… Касардин… Нам нужны силы. Не трать их на это…
Не убирая руки, я, как корова морду о столб, вытер лицо о засаленный рукав.
Мазурин прав. Нам нужно беречь силы.
* * *
Но с какой бы экономией я ни подходил к их расходу, любое движение казалось мне расточительством. Энергия — ее не было уже давно. Быть может, проблески ее и осветили бы мою надежду, когда бы виделся свет в конце этого адского тоннеля. Но чаще всего мне казалось, что, наоборот, мы закованы страшной силой в консервную банку размером с Украину, и нет ножа, чтобы ее вскрыть.
Камни, кирпичи, камни… Я закрывал глаза в минуты отдыха и продолжал их видеть. Они, казалось, навечно приросли к моей груди, и по краям этого уродливого нароста — мои белые от напряжения пальцы…
Люди умирали сотнями. Кого-то добивали прикладами, кто-то падал от истощения. И тогда его забрасывали в грузовик и куда-то увозили. А потом и увозить перестали. Каждый вечер двадцать человек снималось с работ для рытья огромной ямы. Закончив углубляться в землю, несчастные ждали, когда их поднимут наверх, но не тут-то было. Их расстреливали сверху, после чего яма заполнялась умершими за день людьми. Назначалась следующая двадцатка, и эти двадцать сталкивали в яму трупы. Танк из инженерного взвода немецкой части, держа перед собой ковш, яму засыпал, после чего рабочий день можно было считать законченным.
Каждый день, когда миновал меня перст начальника лагеря, выбирающего двадцать человек для похорон, а проще говоря — для закапывания тел, я думал о том, насколько нужно быть сволочью, чтобы с вечера назначать завтрашних покойников. Уже не было секретом, что те, кто сегодня засыпает яму, завтра будет ее рыть и в ней умирать первыми. И эти двадцать проводили ночь и весь последующий день в ужасных мучениях. Я запомнил одного мужчину лет сорока, который спустился в «Уманскую яму» черноволосым, а наутро того дня, когда ему предстояло рыть яму, выбрался полностью седым. Солдаты устраивали тотализатор, пытаясь угадать, кто из двадцати решится на побег. В любом случае для смельчака была одна дорога — в землю. Эти двадцать избранных всегда шагали впереди всей колонны и были словно символом ее, предзнаменованием будущей судьбы всех, кто шел за ними…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу