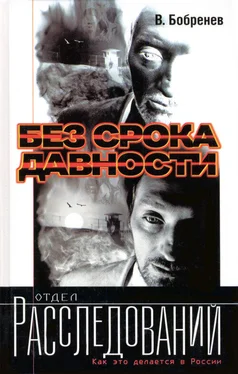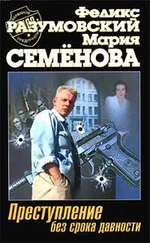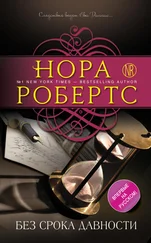— Думаю, наша затея ничуть не уступает американскому изобретению, а то и похлеще будет, — пропустив первую стопку, возвратился к своей теме Блохин.
— Глядишь, и не зря стараемся. Может, еще и в историю войдем, — с некоторой иронией в голосе ответил Могилевский.
— Ты, Гриша, не умничай и не язви. Дело серьезное. Надо сделать так, чтобы к осужденным к высшей мере наказания никто и прикасаться не смел. Завели — поехали, остановились — вынесли трупы. Завели — вынесли, а?! — мечтательно говорил комендант. — Главное для арестантов — полная неизвестность!
— Угу, — проглотив кусок бутерброда, поддержал коменданта начальник лаборатории.
— Ты представляешь, подгоняем машину вплотную к дверям тюрьмы. Зачем приехали — шоферу знать совершенно ни к чему. Живых или мертвых повезет — не его ума дело. Ему вручат накладную на груз, прикажут — доставь на кладбище или в крематорий. Машина трогается, наш сопровождающий включает вентилятор и гонит в фургон с людьми газ. На пункте назначения опять же наш сотрудник принимает груз по количеству голов — по накладной значатся покойники. Теперь остается их только выгрузить и сжечь или закопать в траншею. И все. Даже тут можно что-нибудь этакое придумать, чтобы как на конвейере: идет себе машина и идет. Никакой истерики, душевных мук за убиенных. Главное — нет никакого ощущения греха. Заключенные прибывают и убывают. Мало ли куда их привозят и отвозят. Вот так! Сплошная наука действует.
— Народу-то хватит? — испуганно спросил Могилевский, который не представлял масштабы уничтожения людей и был поражен словами коменданта, из которых выходило, что речь ведется о массовых убийствах.
— Какого народу?
— Ну тех, кого будут в машину заводить, потом оттуда выносить.
— Пускай это тебя не волнует. На наших детей его, этого самого народу, еще хватит. Может, и внукам останется. Но зато те, кто в живых останется, уж будут по струнке ходить, всем в пояс кланяться и работать без всякого ропота за четверых. Вот какую особь человеческую надо воспитать. А потом коммунизм строить.
— Кстати, ты ничего не узнал про эту старушку-то Сергееву. Жена профессора. Ведь профессор, можно сказать, соавтор нашего изобретения. Он дал мне свою тетрадку с графиками, расчетами, с результатами патологоанатомических исследований десятков угоревших и отравившихся угарным газом людей.
— Ну и что? Штернберг она, а не Сергеева, — недовольно перебил его Блохин. — Отправили ее в Томск, в лагерь. Десять лет дали без права переписки.
— А за что?
— За дело. Заговор там у них какой-то. Всех Штейнбергов собрали — кого сразу в расход пустили, а кого в лагеря отправили. Еврейка она, чего же ты хочешь!
— Но я тоже еврей, — с обидой выговорил Могилевский.
— Ты наш еврей, как Лазарь Моисеевич Каганович. А она связи с заграницей имела. Письма туда-сюда писала, ответы получала. Критиковала порядки…
— Вон оно что…
— Это же понимать надо. И все, хватит болтовни! Делом надо заниматься. Завтра с утра начинаем испытания! «Птички» твои уже здесь, в клетке, — рассмеялся Блохин.
— Завтра приступим, — кивнул Могилевский, мысленно возвращаясь к судьбе жены профессора. Она всегда смотрела на него с холодным высокомерием, точно муж каждый день приводил в дом всякую шваль. Смотрела на него свысока, словно графиня какая-то или герцогиня. И ни разу не снизошла, чтобы не то что заговорить с Григорием, не соизволила ни разу даже поздороваться, удостоить приветливым кивком головы. Видать, сразу распознала, неприязнь к нему испытывала. Что же до Могилевского, то ее тонкое, красивое лицо, ухоженные волосы, плавная, мягкая походка, стройная, несмотря на пятидесятилетний возраст, фигура — все в ней завораживало молодого токсиколога. Он всегда краснел, когда ловил на себе ее взгляд — равнодушный, полный безразличия к невзрачному посетителю. И вот теперь эта неприступная особа ходит в арестантской робе, хлебает тюремную баланду в камере среди всякого сброда: проституток, воровок, спекулянток и грубых охранников, раздающих матерщину направо и налево. И наверняка коротко подстриженная — в лагерях всех стригут, чтобы не завелись вши. Интересно бы взглянуть, каково ей сейчас?..
А жизнь между тем катилась дальше. На другой день по указанию Блохина в фургон поместили нескольких заключенных. Обреченные на смерть люди не имели ни малейшего представления об ожидающей их участи. Они скучились в железном фургоне возле широко открытой задней двери, разглядывая двор сквозь толстую металлическую решетку, громко переговаривались между собой и даже перебрасывались шутками.
Читать дальше